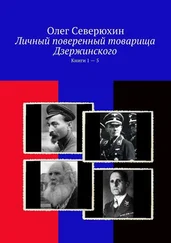Если прочитать под этим углом зрения стихи Слуцкого, бросается в глаза их мышечная природа: они не написаны, а записаны. Именно вышаганы: ритм ходьбы, ритм сердцебиения, энергия отдельной строки. Так писал, как известно, Маяковский, менее известно — Блок. Из младших современников — Вознесенский. Так что мое предыдущее заявление о графоманстве Слуцкого как минимум нуждается в уточнении. Графоман пишет по вдохновению, не отрывая пера от бумаги, а Слуцкий не писал, а вырубал слова из (воздушной) породы. Это изнурительный, порой безблагодатный труд, хотя, случалось, его и «вело», как всякого истинного поэта. Это же держало в форме. Инвалидный опыт и семейная ситуация не давали расслабиться. «Кто придет неразрушенным к старости, выиграет», — сказал он однажды посреди разговора, и я понял, что он постоянно об этом думает.
Иногда срывался и срочно вылетал в Москву — на моей памяти трижды — хоронить друзей. (Помню поспешный его отъезд — проводить в последний путь Любовь Михайловну Эренбург.) Через двое суток возвращался. Для него это была важнейшая обязанность, и он исполнял ее неукоснительно.
Вот я смотрю на выцветшую любительскую фотографию: скамейка на набережной, на ней четверо: Александр Абрамович Аникст, шекспировед, Виталий Лазаревич Гинзбург, физик, Слуцкий и я с краю. Троих уже нет на свете. А я еще живу, вспоминаю ту весну, цветущий тамариск, детский визг купающихся, шум волн и скрежет береговой гальки…
Тогда, весной 74-го, я узнал, что Таня давно и неизлечимо больна (рак лимфоузлов, кажется), что через Лилю Брик Б. А. удалось вывезти ее в Париж на лечение, что болезнь удалось приостановить, но она должна быть крайне осторожна: избегать солнечных лучей, соблюдать режим, вести себя осмотрительно. И я многое понял про них. Все эти годы они жили с ощущением отсроченной катастрофы, ожидая худшего и встречая каждый день как подарок. Отсюда их и замкнутость, и жадность к людям.
А Коктебель был место не только людное, но отборно людное. Кого только не прибивало к его благодатному (тогда) берегу. Я был допущен в круг его постоянных обитателей, старожилов и приезжавших на сезон, и дух некой вольницы, не без снобистского фрондерства, пронизывал каждый уголок этого славного места. Все быстро знакомились со всеми, завязывались дружеские и деловые связи, вспыхивали курортные романы, перераставшие иногда в браки, а Б.А. был очень опытным сватом, чем гордился. Именно там он познакомил меня с Ириной Поволоцкой, Ирой, ставшей потом моей женой.
А проделывал он это оригинальным манером. Будучи сам не знаком с выбранным объектом обольщения, он подходил к нему с каким-нибудь бесхозным ребенком и вовлекал в разговор на тему воспитания (вот, мол, оставляют без присмотра), после чего представлял якобы случайно появившегося знакомого и через минуту-другую, извинившись, отходил, предоставив дело случаю. Так он познакомил на пляже моего товарища Камила Икрамова с его будущей женой Олей. Так познакомил и меня с Ирой, правда, на этот раз они разыграли представление вместе с Таней. А увидев, что я не просто увлекся, а влюбился по уши, не на шутку встревожился и, когда мы уезжали на одной машине в аэропорт, а Ира с дочкой еще оставались на двенадцать дней у моря, он, пресекая мои судорожные усилия открыть дверцу или окно машины и выкрикнуть слова прощания, приказал шоферу прибавить скорость (это в парке-то) — «опаздываем!». Семья для него была превыше всего.
Вообще-то об этом месте и его героях можно и нужно рассказывать не в двух словах, но мы будем грести дальше, в сторону Слуцкого. Скажу только, что еще две весны мы встретим там вместе, всего две весны, но их трудно забыть. Б.А., как всегда, много работал, гудел ритмическим гулом, отпускал для развлечения приморской публики свои шуточки, присыпанные аттической солью. Таня держала спину и улыбалась, но я уже знал, чего ей это стоит. За общим столом, кроме нас, сидела, как всегда, Галя Евтушенко, иногда прилетал и Евгений Александрович, Женя, и мы сидели уже впятером.
Я не помню, чтобы Б.А. как-то отмечал свои дни рождения (7 мая), но в День Победы я видел его всегда в номере Каплера и Друниной, на торцевой лоджии второго этажа, обращенной к Сюрю-Кая — там они сидели дотемна, им было что вспомнить. Юля похоронит Алексея Яковлевича в Старом Крыму, а сама, уже в новые времена, узнав о распаде СССР, закроется в легковушке, включит мотор и задохнется от выхлопных газов. Из нее помню четыре строки: «Я только раз видала рукопашный, / Раз наяву. И тысячу — во сне. / Кто говорит, что на войне не страшно, / Тот ничего не знает о войне».
Читать дальше