А потом мы своими детскими голосами выводили разудалую:
Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши деды?
Наши деды — громкие победы, вот где наши деды.
К этой же эпохе раннего детства, то есть к началу восьмидесятых годов, относится и мое первое знакомство с русской деревней.
Это было родовое имение, унаследованное отцом после смерти деда, Чертолино, Тверской губернии, Ржевского уезда, Лаптевской волости и, как значилось в крепостных документах, «прихода св. Троицы, что на реке Сишке».
Там отец проводил с нами все свои служебные отпуска, и туда же съезжались мы, будучи уже взрослыми.
Чертолино — это моя дорогая родина.
С радостью сбрасывал я с себя офицерский мундир и накрахмаленную рубашку и, заменив их косовороткой, бежал в чертолинский парк. Там, с крутого берега Сишки, заросшего вековыми пахучими елями, видна на другом берегу деревня Половинино. Большой желтый квадрат зреющей ржи, изумрудный воронцовский луг и полосатые поля крестьянских яровых; темно-зеленые полоски картошки чередуются с палевыми полосками овса и голубоватыми полосками льна.
На косогоре, как бы в воздухе, красная кирпичная церковь, московская пятиглавка, а на горизонте — синева лесов, тихие пустоши, летом пахнущие сеном, а к осени мокрым листом и грибами.
На всю жизнь запечатлелся в моей памяти этот дорогой уголок родины. Никакие красоты в иных странах не могли вытеснить из моего сердца привязанности к русской природе.
И жаль мне людей, которые чувствуют по-иному. Они, верно, не жили, как я, в живописных истоках Волги и не чувствовали всего величия русской деревенской жизни, прежней жизни русского народа во всей ее неприглядности и темноте. Там же, в Чертолине, я осознал и счастье служить этому народу, в котором природная рассудительность и сметка восполняли культурную отсталость, а стремление к правде и справедливости создавали почву для достижения высших человеческих идеалов.
Оно, это чувство неразрывной связи с чертолинским народом, послужило мне самой сильной нравственной поддержкой в те тяжелые дни, когда я жил на чужбине один, преследуемый всей русской эмиграцией.
— Да перед кем же вы в конце концов чувствуете себя ответственным? — спросил меня в Париже французский премьер-министр Клемансо после Октябрьского переворота, когда узнал, что я — русский военный атташе — отказываюсь признавать белых и в то же время хлопочу о делах наших бригад во Франции.
— Да перед сходом наших тверских крестьян, — ответил я французскому премьеру. — Они, эти мужики, наверно, спросят меня: что я сделал в свое время для их собратьев, революционных солдат особых русских бригад во Франции?
Маклаков называл это демагогией, но не смог вырвать из моей головы память о наших кузнецовских, смердинских и карповских мужиках, с коими были связаны в прежнем лучшие минуты здоровой, трудовой, деревенской жизни.
Живя в Париже и читая уже много лет спустя о кулаках, я мысленно видел старшину Владимира с цепью на шее, осанистого, хитрого, молчаливого, сознающего свое превосходство; или церковного старосту Владимира Конашевского в зайцевской церкви: он ставит свечки, истово крестится и при каждом поклоне заглядывает из-под локтя назад на приход, которому должен показывать пример благочестия, — в нищем Конашеве из пятнадцати дворов у него одного изба в три сруба с резью.
А середняками я представлял себе наших соседей карповских, работавших полвремени у себя, а полвремени у нас, снимая на обработку картофельные или льняные десятины. У них было по одной-две коровы, по одной-две лошади, не то что у кузнецовских, которые поставляли мощный обоз для зимней возки морозовского леса или нашего спирта.
А бедняки — это вся смердинская голытьба, что ежедневно заходила в усадьбу за работой и артелью брала подряд то на расчистку леса, то на копку канав или силосных ям; это загадочный угрюмый великан Павел Воронцовский, не обрабатывавший даже собственного надела, безлошадный, занятый обычно ловлей раков, первый участник в пуске нашей паровой молотилки и усовершенствованной сноповязалки. Он презирал полужизнь, полусмерть своих односельчан, которые его побаивались, считая, что у него просто «не все дома».
Управляющим Чертолиным, исполнителем всех заданий отца был его бывший денщик Григорий Дмитриевич Яковенко, покоривший в свое время сердце горничной Дуняши; Дуняша превратилась в Авдотью Александровну и получила от крестьян достойную своего нрава кличку Погода.
Читать дальше
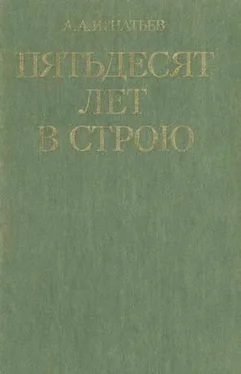






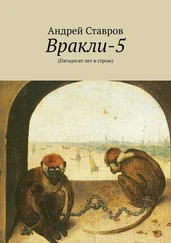





Таких авторов нужно изучать в школе, а не Солженицына.