Бутлеров дожил до признания своей теории химического строения, но не увидел торжества других своих великих идей и предвидений.
Глубокого и тонкого понимания всех следствий созданной им теории Бутлеров не видел у химиков своего времени.
Если и в наше время находятся ученые, не вполне понимающие роль, значение и приоритет открытий Бутлерова в истории науки, то у своих современников Бутлеров тем более далеко не всегда получал полное признание. Выступая после смерти Бутлерова с оценкой его заслуг, Н. А. Меншуткин признавал, что структурная теория «сразу осветила изомерию среди углеводородов; показала возможные случаи изомерии их, определенное число таких возможностей», что «уяснение изомерии между углеводородами имело следствием уяснение этих явлений и среди других отделов органических соединений», но оговаривался при этом, что по его личному взгляду на этот предмет «и на основании положений теории типов Жерара можно вывести всю систему углеводородов».
Между тем незадолго до своей смерти Бутлеров в докладе «Химическое строение и «теория замещения», исходя из общих материалистических представлений, раскрыл всю непоследовательность и несостоятельность «теории замещения» Меншуткина. Он доказал неопровержимо, что действительное содержание утверждений Меншуткина подтверждает теорию химического строения и опровергает его же; основные положения.
Меншуткин не отрицал существования изомеров, но утверждал, что «входить в ближайшее исследование того, как построены частицы химических соединений из атомов, нет возможности» [7] Впоследствии, в девяностых годах, Меншуткин отбросил свою ошибочную теорию и стал горячим сторонником теории Бутлерова.
.
Против этого-то утверждения о невозможности познать строение химических соединений Бутлеров возражал с особенной категоричностью.
«Что такое атом и существует ли он реально? — спрашивает Бутлеров и отвечает: — Для химика это наименьшее количество элемента, встречающегося в составе частицы. В этом смысле атом настолько же реальная, вещественная величина, как и частица; и о нем мы можем, в отношении некоторых свойств, говорить с тем же правом, как говорим о частице. Познавать атом прямо со столь же разнообразных сторон, как познаем частицу, нам дано пока лишь в немногих случаях. Эта возможность представляется там, где понятия об атоме и частице сливаются воедино, то-есть где частица состоит из одного атома, как у паров ртути и кадмия. Опираясь на эти случаи существования атомов в отдельном, самостоятельном виде, мы тем с большим правом можем говорить об атоме вообще, как о реальном объекте».
Отмечая далее, что «при всяком познавании внешнего мира наше понятие о предмете слагается из двух долей, объективной и субъективной», и что это «не только не умаляет значения реального знания, а напротив, по отношению к нам, скорее возвышает его», Бутлеров заключает:
«Итак, с понятием о частице и атоме химик связывает известную сумму представлений. Она вообще богаче по отношению к частице, а по отношению к атому достигает этой полноты лишь в некоторых случаях, там, где частица и атом одно и то же; но тем не менее атому химиков соответствует нечто реальное, о чем они могут рассуждать с полным правом… При наших суждениях мы должны говорить о них, как о реальных предметах, если не хотим впасть в полнейшую темноту и неопределенность».
Признавая реальность атомов, Бутлеров показывает, что единственно последовательным и будет признание того, что атомы, находясь в частице, «состоят в некотором определенном отношении между собою».
Как в спорах с противниками, так и во всех своих выступлениях в защиту проводимых им теоретических воззрений Бутлеров предстает перед нами крупнейшим ученым-новатором в области естествознания, стихийным материалистом и диалектиком по своим антиметафизическим, антимеханистическим взглядам на вещество, материю и энергию.
Стихийный диалектик в области химии, способный на широкие обобщения, широко образованный естествоиспытатель и натуралист, Бутлеров в некоторых общетеоретических вопросах оставался эмпириком, его мировоззрение не опиралось на последовательные диалектико-материалистические принципы. Этим объясняется то способное поразить наших современников обстоятельство, что великий ученый некоторое время серьезно относился к такому дикому суеверию, как спиритизм — «вызывание духов».
Во второй половине прошлого века интерес к спиритизму был велик даже среди некоторых ученых. Всевозможные фокусы спиритов — столоверчение, фотографирование «духов», материализация «духов» и др. — они воспринимали как непонятные, но реальные явления. В статье «Естествознание в мире духов» Энгельс показывает закономерность этого для ученых, беззаботно относящихся к теоретическому мышлению, не умеющих мыслить диалектически, ограничивающих свой теоретический горизонт эмпирическими наблюдениями.
Читать дальше
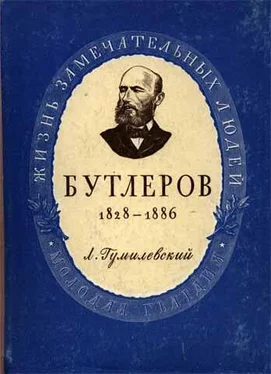

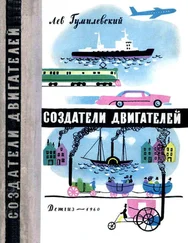
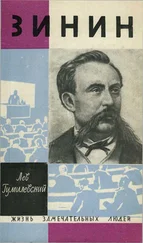
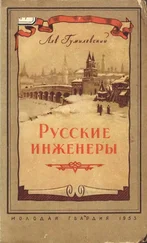
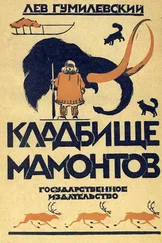

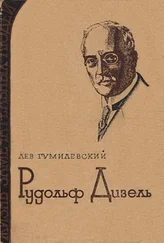
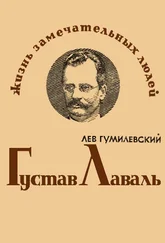

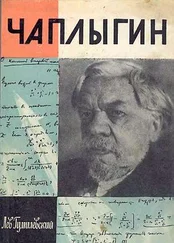
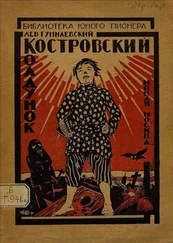
![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/413893/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy-thumb.webp)