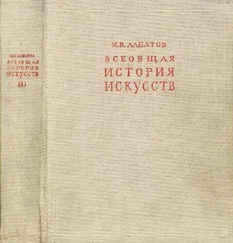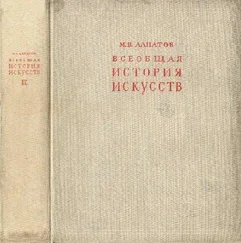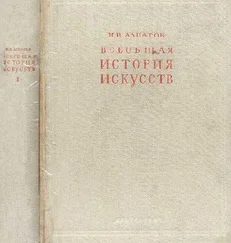В конечном счете картины Матисса выражают готовность художника пренебрегать всеми соблазнами жизни ради высоких целей искусства. Ему приходилось много трудиться над тем, чтобы освободиться от лишнего балласта. Недаром во многих случаях он не скрывает того, что рисует вовсе не жизнь, какой ее можно подсмотреть, увидать, но всего лишь модели, которые он усаживает, как ему нужно, и одевает по своему вкусу. В некоторых случаях с краю картины или в зеркале виден художник за мольбертом, рисующий модель. Но он идет еще дальше. Можно сказать, что содержанием его картин становится сам процесс позирования и создания картины, факт превращения модели в красочное пятно, процесс художественного претворения жизни.
В живописном реквизите художника можно обнаружить запас предметов, которые в различных сочетаниях проходят через все его холсты (некоторые из них, отслуживши свою службу, хранятся ныне в музее его имени в Ницце). Вот эти любимые предметы Матисса:
вазочки различной формы, предназначенные для пышных букетов цветов, блюда, на которых громоздятся спелые плоды;
кресла с полосатой обивкой, очень удобные для сидения (одному старинному креслу художник посвятил отдельную картину);
стеклянный сосуд, в стенки которого тыкаются носами золотые рыбки; узорчатая балконная балюстрада, сквозь которую заманчиво виднеется уголок лазурного моря;
окно, сквозь которое приветливо выглядывает голубое небо; полосатые зеленые жалюзи, благодаря которым при солнечном свете пол превращается в подобие зебры;
ковер-дорожка, который ведет наш взор в глубь картины; ковры на стене, которые останавливают это движение.
И, конечно, рядом с этим реквизитом предметов в искусстве Матисса существует свой реквизит персонажей: среди них прежде всего изящные молодые женщины и девушки, то в пестрых халатах, то в восточных панталонах, то, наконец, обнаженные; они то лениво возлежат на тахте, то музицируют, то всматриваются в рыбок или праздно сидят, отложивши в сторону книгу.
Все эти предметы и персонажи ведут в картинах своеобразное существование. Правда, во время работы художник, по собственному признанию, верил в реальность их существования. Но в конечном счете они ему нужны были для того, чтобы создать картину и доставить ею зрителю художественное наслаждение. Способность отвлекаться от предмета была знакома еще предшественникам Матисса, но им она была ясно осознана и последовательно проводилась в искусстве.
В этом отношении картины Матисса решительно отличаются от картин на сходные темы его сверстника П. Боннара. Главной задачей этого художника- интимиста было вызвать в нас ощущение уюта жизни, протекающей перед нашими глазами. Эту задачу он прекрасно решал в изображениях утренних вставаний и туалетов, завтраков и обедов, в изображениях комнат, тесно заставленных вещами, с играющими детьми, кошками и собаками. Матисс порывает с этим домашним уютом. Многие видят в этом непоправимую потерю. Но потеря эта искупается новыми возможностями, завоеванными художником.
Он сам говорил об особом видении художника, которое освобождает его от зависимости от предмета. Самая красивая модель, признавался он, для художника то же самое, что стройная ваза. И это были не пустые слова. В живописи Матисса мы постоянно находим признаки подобной отрешенности от обычного восприятия ради раскрытия в вещах их внутреннего смысла. В одной картине — „Танцовщица и кресло ” (1942, Ливан, частное собрание) — изящная, гибкая фигурка женщины почти приравнивается к стоящему рядом с ней креслу с гнутыми подлокотниками. Два уподобляемых друг другу существа словно „переговариваются ” друг с другом, как живые собеседники. В другой картине, „Лиловое платье ” (Балтимор, Музей), букет анемонов, плоды и женщина в кресле за ним, и полосатые обои и ковры как бы сливаются в один узор. Сопоставляя картины и рисунки Матисса на разные темы (илл. 26, 21, а также на стр. 50, 51), можно нередко заметить внутреннее родство их структуры в плавности контуров, в пропорциях фигур и во взаимоотношениях красок. Во всем этом проявляется победа творческого видения художника над эмпирической данностью реального мира.
Матисс как бы уверяет нас, что во всех представленных и воспетых им предметах самое существенное — это их внутреннее родство. Но поскольку мы все же угадываем в каждом из них то живого человека, то неодушевленный предмет, мы как бы вновь обретаем реальность, но только преображенную искусством, одухотворенную воображением художника.
Читать дальше