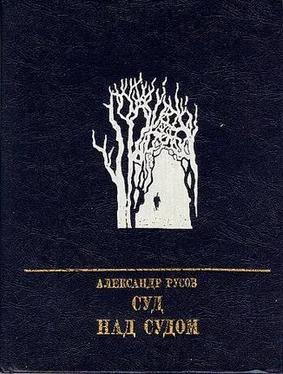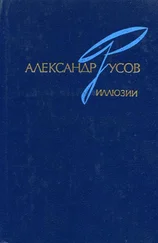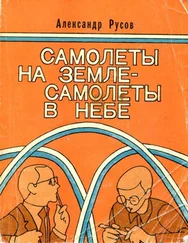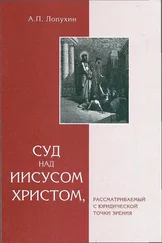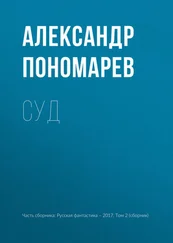Единственная хорошо налаженная дорога от Обдорска идет через Березов, Тобольск, на Тюмень. По ней нас везли этапом. До Березова дорога земская, а оттуда — почтовая. Я уже касался случая с одним товарищем, пожелавшим воспользоваться этим трактом.
Оставалось обратить внимание на другие пути. Мы старательно принялись за изучение различных коммерческих дорог, соединяющих Обдорск с торговыми пунктами Вологодской и Пермской губерний. Карты у нас имелись. В местной библиотеке благодаря трудам миссионера о. Иринарха была собрана богатая литература о сибирском севере. Ею мы и воспользовались, хотя благочестивый монах, верно, не предполагал, что его коллекция будет использована для таких «преступных» целей.
Из нескольких дорог некоторые были совершенно заброшены, и о них никто из местных обывателей не мог дать никаких сведений. Они действовали еще тогда, когда в Обдорск ходило мало пароходов и местным торговцам приходилось организовывать вывоз товаров собственными средствами. Самые свежие сведения, которые нам удалось собрать об этих дорогах, относились ко времени 15–20-летней давности. По другим дорогам, правда, ездили и теперь, но только в определенное время года, со специальными провожатыми. Главный недостаток этих дорог заключается в том, что в целом ряде перегонов в двести — триста верст нет жилых помещений. Надо ехать со своими запасами, с долгими остановками для отдыха и корма лошадей. А нам это было не совсем удобно, так как полиция могла доскакать до телеграфа и предупредить все железнодорожные станции, лежащие вблизи Тобольской губернии. Опасность тогда удесятерилась бы.
Для побега требовалось прежде всего достать проводника и оленей. Без помощи местных жителей мы этого сделать не могли. Полиция также понимала, что мы должны будем обратиться за помощью к местным обывателям. Поэтому она учредила надзор не столько за нами, сколько за ними. Условия жизни в Обдорске настолько просты, и различные комбинации для организации такого экстраординарного предприятия, как побег, настолько невелики, что полиция почти без ошибок наперед знала, что мы можем предпринять. Становой пристав, под надзором которого мы находились, великолепно знал всех местных обывателей, знал, кто из них способен взяться за содействие. При таких условиях нечего было и мечтать скрыть после побега концы в воду.
Мне рассказывал один знакомый зырянин, как внушал ему пристав не помогать политикам, особенно «советским»:
— Конечно, — говорил он, — они люди, достойные с нашей стороны не только уважения, но и признательности. Каждый из нас обязан всячески оказывать им содействие. Но все же не надо забывать и себя. За содействие побегу ссыльнопоселенцев полагается ответственность по суду. Следствие может затянуться года на два, и все это время придется сидеть в тюрьме. Ведь они все равно и без всякого содействия убегут. Чего же вам подводить себя?
Несколько раз нам удавалось наладить все для побега. Даже назначался день выезда. Но в самый решительный момент все расстраивалось из-за отказа проводника или хозяина оленей. Особенно памятна мне одна неудача, которая, в сущности, была и последней нашей попыткой бежать зимним путем.
Идею организации этого побега, как ни странно, подсказал нам обдорский пристав. Побег служил одной из постоянных тем разговора между нами и начальством, когда мы встречались. Это и понятно, так как и мы, и пристав были в нем непосредственно заинтересованы, хотя по совершенно противоположным мотивам.
Рассказывая о том, в какое нелепое положение он поставлен циркулярами, требующими неусыпного надзора за «советскими», он, между прочим, остановился на следующей возможности:
— Ну что, например, я могу сделать, если вы убежите перед самой распутицей? Вы предварительно все организуете и отправитесь на Усу [40] Приток Печоры.
тогда, когда вокруг Обдорска не останется ни одного оленя. Погони за вами я организовать не сумею, сообщить в Березов также, так как не будет никаких дорог. Только месяца через полтора или два сумею известить начальство о совершившемся факте.
Пристав был прав. Во время распутицы Обдорск совершенно оторван от остального мира, и что бы в нем ни случилось, известить кого-нибудь из начальствующих лиц нет никакой возможности.
Есть, правда, один путь — послать «депешу», но он действует только в самом начале распутицы, когда лед еще не тронулся. Способ этот весьма оригинален и ярко характеризует ту боязнь начальства, которую администрация сумела внушить остякам.
Читать дальше