— Вагнер, — сказал Гёте, — не выпускает колбу из рук, и голос должен звучать так, словно он исходит из колбы. Тут надо бы пригласить чревовещателя, я их не раз слышал, и, право, это было бы отличным выходом из положения.
Далее мы заговорили о маскараде и возможности перенести его на сцену.
— Это, пожалуй, потруднее, чем изобразить неаполитанский рынок, — заметил я.
— Тут нужна огромная сцена, — сказал Гёте, — а иначе я уж и не знаю как быть.
— Я надеюсь все это увидеть своими глазами, — сказал я, — и заранее радуюсь слону, которого ведет мудрость, Победа восседает на нем, а по бокам его бредут, закованные в цепи, Боязнь и Надежда. Лучшей аллегории, думается мне, нет на свете.
— Это не первый слон на театре, — сказал Гёте, — в Париже такой гигант доподлинно играет роль. Он принадлежит к Народной партии и, сняв корону с одного короля, возлагает ее на другого, — выглядит эта сцена, вероятно, грандиозно, — а после конца спектакля отвешивает поклон публике и удаляется. Из этого следует, что и мы могли бы вывести на сцену слона. Но в целом маскарад слишком многолик, и для него надобен режиссер, какого мы вряд ли сыщем.
— Да, но от такого блеска и великолепия, пожалуй, не откажется никакой театр, — сказал я. — И как стройно все развивается в этой сцене, как становится более значимым! Сначала цветочницы и садовницы украшают сцену и в то же время образуют толпу, дабы дальнейшие события не имели недостатка в окружении и в зрителях. Вслед за слоном по воздуху над головами проносится запряженная драконом колесница, вырвавшаяся откуда-то из глубины сцены. Далее следует явление великого Пана, а под конец все уже объято кажущимся пламенем, которое стихает и гаснет, когда наплывают тучи, несущие влагу. Если все это будет воплощено на сцене, публика обомлеет от изумления и должна будет признаться себе, что ей недостает ума и фантазии для должного восприятия всех этих явлений.
— Оставьте, я о публике и слышать не хочу, — сказал Гёте. — Главное, что все это написано, а люди уж пусть этим распоряжаются как хотят и используют по мере своих способностей.
Разговор перешел на мальчика-возницу.
— Вы, конечно, догадались, что под маской Плутуса скрывается Фауст , а под маской скупца — Мефистофель. Но кто, по-вашему, мальчик-возница ?
Я не знал, что ответить.
— Это Эвфорион , — сказал Гёте.
— Но как же Эвфорион может участвовать в маскараде, если он рождается лишь в третьем акте?
— Эвфорион, — отвечал Гёте, — не человек, а лишь аллегорическое существо . Он олицетворение поэзии , а поэзия не связана ни с временем, ни с местом, ни с какой-нибудь определенной личностью. Тот же самый дух, который позднее изберет себе обличье Эвфориона, сейчас является нам мальчиком-возницей, он ведь схож с вездесущи ми призраками, что могут в любую минуту возникнуть перед нами.
Воскресенье, 27 декабря 1829 г.
Сегодня после обеда Гёте прочитал мне сцену, в которой речь идет о бумажных деньгах.
— Вы, вероятно, помните, — сказал он, — что заседание государственного совета в конце концов сводится к сетованиям на отсутствие денег, но Мефистофель обещает их раздобыть; эта тема не угасает и во время маскарада, где Мефистофель умудряется подсунуть императору в обличье Великого Пана на подпись бумагу, каковая тем самым приобретает ценность денег и, тысячекратно размноженная, пускается в обращение.
В этой же сцене история с бумагой обсуждается в присутствии короля, который еще не понимает, что он сотворил. Казначей приносит ему банкноты и объясняет суть дела. Император поначалу разгневан, но, уразумев, какую это сулит выгоду, щедро одаряет своих приближенных новыми деньгами. Удаляясь, он обронил несколько тысяч крон, которые тотчас же подбирает толстяк-шут и бежит прочь, торопясь превратить бумажки в земельную собственность.
Гёте читал эту великолепную сцену, а я восторгался остроумнейшим приемом — приписать Мефистофелю изобретение бумажных денег и таким образом увязать с «Фаустом» и увековечить то, что в данное время внушало интерес всем без исключения.
Едва Гёте кончил читать эту сцену, едва мы успели обменяться несколькими словами о ней, как вниз спустился его сын и подсел к нам. Он сразу заговорил о последнем романе Купера , который только что прочитал и с присущей ему живостью отлично изложил нам. Мы ни словом не обмолвились о только что читанном, но он сам вдруг завел речь о прусских ассигнациях, за которые сейчас платят выше их номинальной стоимости. Покуда он говорил, я с еле заметной улыбкой взглянул на его отца, который ответил мне тем же, так мы дали понять друг другу, насколько своевременно то, что он изобразил в этой сцене.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
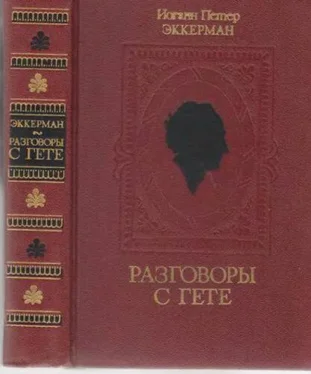












,захватывающая