Воскресенье, 15 февраля 1829 г.
Гёте встретил меня похвалами за мое редактирование естественноисторических афоризмов для «Годов странствий».
— Займитесь-ка природой, — сказал он, — вы для этого созданы, и для начала изложите вкратце мое учение о цвете. [62]
Мы долго беседовали на эту тему.
С Нижнего Рейна пришла посылка с античными сосудами, найденными при раскопках, образчиками минералов, миниатюрными изображениями соборов и записанными карнавальными песенками, которую мы распаковали после обеда.
Вторник, 17 февраля 1829 г.
Много говорили о «Великом Кофте».
— Лафатер , — сказал Гёте, — верил в Калиостро и в его чудеса. Когда тот был разоблачен как мошенник, Лафатер утверждал, что это другой Калиостро, ибо чудодей Калиостро — святой.
Лафатер был добрейший человек, склонный, однако, к невероятным заблуждениям, истина как таковая была ему чужда, он обманывал себя и других. Поэтому-то между нами и произошел полный разрыв. В последний раз я видел его в Цюрихе, но он меня не видел. Никем не узнаваемый из-за своего необычного платья, я шел по аллее и, заметив, что он идет мне навстречу, свернул в сторону, он прошествовал мимо, так и не узнав меня. Походка у него была журавлиная, отчего я и изобразил его на Блоксберге в виде журавля.
Я спросил Гёте, интересовался ли Лафатер природоведением, как это, собственно, можно заключить из его «Физиогномики».
— Нимало, — ответил Гёте, — мысль его была устремлена лишь к нравственному, религиозному. То, что в его «Физиогномике» сказано о черепе животных, мои слова.
Разговор зашел о французах, о лекциях Гизо, Виллемена и Кузена , Гёте с глубоким уважением отозвался об их воззрениях, равно как и об их уменье рассматривать исторические события свободно, всегда с какой-то новой стороны и притом идя прямо к цели.
— Это все равно, — сказал он, — что вы бы ходили в сад окольными, путаными дорогами, но вот нашлись люди достаточно смелые и независимые, чтобы пробить стену и сделать калитку как раз в том месте, где прямо попадаешь на широкую аллею сада.
От Кузена мы перешли к индусской философии.
— В этой философии, — сказал Гёте, — если верить сведениям англичан, нет ничего чуждого нам, скорее в ней повторяются эпохи, через которые прошли мы все. В детстве мы сенсуалисты; когда любим и приписываем предмету своей любви свойства, которых в нем, собственно, нет — идеалисты. Едва только любовь зашатается, едва пробудятся сомнения в верности любимой, и в мгновенье ока мы уже скептики. К остатку жизни относишься безразлично, — как есть, так и ладно, вот мы, наподобие индийских философов, и кончаем квиетизмом.
В немецкой философии надо бы довести до конца еще два важнейших дела. Кант написал «Критику чистого разума» и тем самым совершил бесконечно многое, но круг еще не замкнулся. Теперь необходимо, чтобы талантливый, значительный человек написал критику чувств и рассудка. Если бы она оказалась удачной, нам, пожалуй, больше нечего было бы спрашивать с немецкой философии.
— Гегель , — продолжал он, — написал в «Берлинском ежегоднике» рецензию на Гаманна, намедни я читал ее, потом перечитывал, и она показалась мне достойной всяческих похвал. Впрочем, критические отзывы Гегеля всегда были превосходны.
Виллемен тоже отличный критик. У французов, правда, никогда уже не будет гения, равного Вольтеру, но о Виллемене смело можно сказать, что духовной своей статью он возвышается над Вольтером, а посему вправе судить о его достоинствах и недостатках.
Среда, 18 февраля 1829 г.
Разговор коснулся учения о цвете, и, между прочим, бокалов, мутный рисунок которых на свету кажется желтым, а на темном фоне синим, иными словами — здесь мы видим перед собою прафеномен.
— Высшее, чего может достигнуть человек, — заметил Гёте по этому поводу, — изумление. Ежели прафеномен повергнул его в изумление, он должен быть доволен, ничего более высокого увидеть ему не дано, а искать дальнейшего не имеет смысла — это граница. Но люди обычно не удовлетворяются содержанием прафеномена, им подавай то, что кроется за ним, и в этом они похожи на детей, что, глянув в зеркало, тотчас же переворачивают его — посмотреть, что там с другой стороны.
Разговор перешел на Мерка , я спросил, занимался ли и он естественными науками.
— О да, — отвечал Гёте, — у него имелись даже весьма примечательные естественноисторические коллекции. Мерк был вообще человеком необычайно разносторонним. Искусство он тоже любил и в своей любви заходил так далеко, что, видя, какое-нибудь значительное произведение в руках филистера, который, как он считал, не мог по достоинству оценить его, ничем не брезговал, чтобы заполучить таковое в свою коллекцию. Тут уж он начисто не помнил о совести, любое средство было для него хорошо, он не останавливался даже перед прямым надувательством, если уж ничего другого не оставалось. — И Гёте рассказал несколько забавных случаев из жизни Мерка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
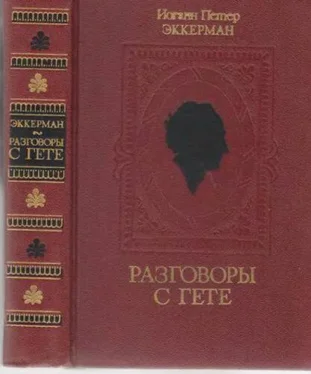












,захватывающая