Покуда я это читал, Гёте удалился в задние комнаты и прислал слугу просить меня к себе; я не замедлил воспользоваться приглашением.
— Посидите еще немножко со мной, — сказал Гёте, — и давайте побеседуем. Мне прислали перевод из Софокла, он легко читается, да и вообще, видимо, хорош, но я все-таки хочу сравнить его с переводом Вольтера. А кстати, что вы скажете о Карлейле?
Я рассказал ему, что я прочел о Фуке.
— Да ведь это же премило, — заметил Гёте, — хорошо, что и за морем есть толковые люди, которые знают и умеют ценить нас.
— По правде говоря, — продолжал он, — в других областях у нас, немцев, тоже нет недостатка в умных людях. Я прочитал в «Берлинер ярбюхер» рецензию одного историка на Шлоссера, она поистине замечательна. Под ней стоит подпись: Генрих Лео, я его имени никогда раньше не слышал, и нам с вами следовало бы о нем разузнать. Он возвысился над французами, а поскольку речь идет об истории, это не так уж мало. Последние чрезмерно цепляются за реальность, идеальное их мозг не вмещает, а нашему немцу это дается без труда. Он высказывает интереснейшие взгляды на сущность индийских каст. Сколько всего говорится об аристократии и демократии, между тем дело обстоит очень просто: в юности, когда у нас ничего нет или же мы не умеем ценить спокойное довольство, мы демократы. Но если за долгую жизнь мы обзавелись собственностью, то хотим ее сохранить, более того, — хотим, чтобы наши дети и внуки спокойно пользовались тем, что мы приобрели. Посему в старости мы все без исключения аристократы, даже если в молодости и придерживались иных взглядов. Лео рассуждает об этом очень умно и метко.
Пожалуй, самое слабое место у нас эстетика, и мы еще долго будем ждать появления такого человека, как Карлейль. Еще хорошо, что теперь, когда установилось тесное общение между французами, англичанами и немцами, нам удается друг друга поправлять и направлять. Это великая польза мировой литературы, которая со временем будет все очевиднее. Карлейль написал «Жизнь Шиллера», где он судит о нем так, как, пожалуй, не сумел бы судить ни один немец. Зато мы хорошо разобрались в Шекспире, в Байроне и ценим их заслуги, пожалуй, не меньше, чем сами англичане.
Среда, 18 июля 1827 г.
— Должен вам сказать, что роман Мандзони превосходит все, что нам известно в этом жанре, — таковы были первые слова Гёте за обедом. — Мне остается только добавить, что внутреннее его содержание, то есть все, что идет от души писателя, — бесспорное совершенство, внешнее же, описание места действия и тому подобное, ни на волос не уступает незаурядным достоинствам внутреннего. А это кое-что значит.
Я был изумлен и обрадован, услышав его слова.
— Читая этот роман, — продолжал Гёте, — все время испытываешь то растроганность, то восхищение, потом снова от восхищения переходишь к растроганности, и так до самого конца тебя волнуют большие чувства, им вызванные. Думается, лучше нельзя было написать роман. Только в нем нам по-настоящему открылся Мандзони, в драмах ему тесно, в них не вмещается вся сложность его внутренней жизни. Я теперь же хочу прочитать один из лучших романов Вальтера Скотта, скорей всего это будет «Веверлей», о котором я понятия не имею, тогда мне станет понятно, насколько Мандзони выдерживает сравнение с великим английским писателем. Духовная культура Мандзони в данном случае стоит на такой высоте, что вряд ли кто может поспорить с ним; она радует нас, как созревший плод. А ясность в воссоздании деталей сходствует разве что с ясностью итальянского неба.
— Не замечаете ли вы у него известной сентиментальности? — спросил я.
— Ни малейшей, — отвечал Гёте. — Он глубоко чувствует, но в его писаниях нет и следа чувствительности; все положения своих героев Мандзони воспринимает мужественно и чисто. Сегодня я ничего больше не скажу, я ведь и первого тома не дочитал, но вскоре вы от меня услышите еще немало.
Суббота, 21 июля 1827 г.
Сегодня вечером, войдя в комнату Гёте, я застал его за чтением романа Мандзони.
— Я читаю уже третий том, — сказал он, отодвигая книгу в сторону, — при этом у меня возникает множество новых мыслей. Вы помните, Аристотель говорил, что трагедия хороша, если она пробуждает страх. Но это относится не только к трагедии, а и к произведениям другого жанра. Вы ощущаете страх, читая моих «Бога и баядеру» более того: во многих хороших комедиях, когда осложняется интрига, даже в «Семи девушках в мундирах» ибо мы не знаем заранее, чем обернется шутка для прелестных малюток. Природа этого страха двоякая: либо боязнь, либо тревога. Тревогу мы испытываем, сознавая, что беда морального порядка надвигается и угрожает действующим лицам, как, например, в «Избирательном сродстве» . Боязнь же охватывает читателя или зрителя, когда действующие лица вот-вот подвергнутся физической опасности, как в «Галерных рабах» или в «Вольном стрелке», где сцена в волчьем ущелье вызывает уже не только боязнь, но полную душевную опустошенность во всех, кто ее смотрит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
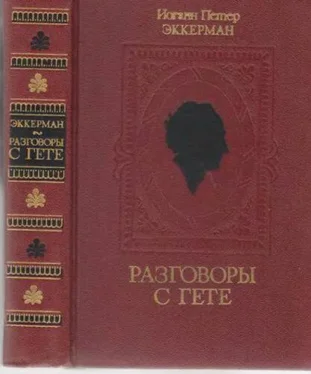












,захватывающая