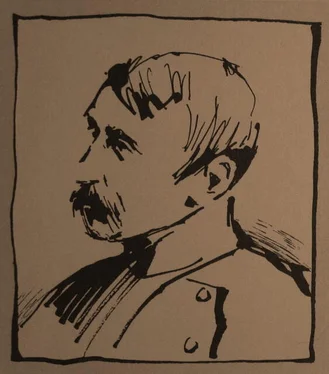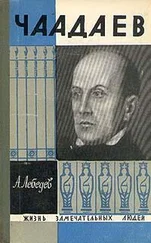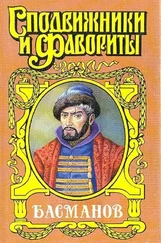Герцен не боялся, а не хотел никаких виселиц, не хотел никакой крови. Он страстно желал, чтобы если уж не «сыновья», так «внуки» вновь обратились бы к тем «поверстным столбам», тем исходным для него вехам всех последующих исторических и личных судеб, которые светлыми нетленными призраками стояли в его глазах у «императорского тракта» России, помеченного своими собственными страшными «дорожными указателями», зовущими на казнь. Никакого «третьего пути» Герцен не мыслил и не выдумывал. Он чувствовал себя душеприказчиком декабризма и имел на то все основания… Сейчас уже неразумно и исторически безответственно было бы полагать, что позиция Герцена в этом случае, в «споре между отцами и детьми», определялась лишь его иллюзиями. В этой позиции были для тойпоры свои слабости, она была для той поры небезупречна — все так. Но в известной ретроспекции, ведя отсчет уже даже не от виселиц, которые ныне «смотрятся» как нечто архаичное и почти «наивное», а от кое-чего более «совершенного» в том же роде, нельзя не понять, наконец, что, в сущности, во все разгоравшемся споре «отцов и детей», в этой многозначительной распре речь для Герцена шла об опасностях самой мысли об отречении «из принципа» от поисков путей ненасильственного преобразования действительности, о революционном реформаторстве. Ведь вообще-то именно эта проблема и была главным стержнем, главной болевой точкой всех духовных исканий и метаний, всех страданий Герцена. Тем, быть может, ныне для нас он и велик.
Никакая это не «модернизация» и не «осовременивание» Герцена — просто на прошлое надо смотреть сегодняшним взглядом, да иначе и невозможно.
В свое время, на своем историческом этапе старался разобраться в прошлом, еще, казалось бы, совсем недавнем для него прошлом, и Герцен. Он прекрасно чувствовал, к чему могут идти и идут «дети», и знал, из какого отчаяния идут они по страшному своему пути — пути крови. Позади у «детей» было только поражение декабристов-отцов на Сенатской да Николай. «Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, — писал Герцен, — не замещалось. Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое». Это свое прозвучало уверенно и страшно: «Оставьте всякую надежду». Это не было восклицание, не был крик — это была констатация исторического факта.
Герцен говорит нечто очень важное для понимания его взгляда на тот промежуток российской истории, в который столько всего завязалось для будущего и столько узлов было разрублено, казалось, навсегда.
«После «Горе от ума», — замечает Герцен, — не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай».
С Грибоедовым, как помним, Якушкин был дружен с детства. Юный Якушкин считался, согласно одной из тогдашних версий, прототипом Чацкого. Если так, то Герцен даже и не сделал никакого литературного умозаключения, сказав, что Чацкий — будущий декабрист и всей своей жизнью шел прямехонько в Сибирь.
Так возникает особый социально-психологический ряд: Грибоедов — Якушкин — Чаадаев. Все эти люди связаны между собой далеко не одними частными обстоятельствами личных судеб, но чем-то большим, какой-то общей особенностью. Перед ними останавливается взгляд, привыкший к слишком безапелляционным и вместе с тем слишком размашистым оценкам. Чаадаев и Грибоедов были как бы «не вполне» — даже и по самым уступительным критериям — декабристами, если даже оставить совершенно в стороне вопрос о формальной их принадлежности к Обществу. Якушкин был среди основателей Общества, но (оставив в стороне вопрос о «выходе» его из Общества после отклонения товарищами предложения Якушкина об «устранении» Александра) всегда держался наособицу. Составляя свой собственный особый ряд, все эти люди заметно выпадают из наших «апробированных» представлений о декабризме, дворянской революционности, о революционности вообще, о том, наконец, кто в истории для нас «более ценен», как скажет позже поэт. Этот особый родлюдей словно вносит некую поправку к той привычной шкале социально-психологических ценностей, которая включает для нас понятие «декабризма». Мало того, что все эти люди — «декабристы без декабря», все не были на Сенатской, строго говоря, их и не назовешь «людьми 14 декабря» и сами они себя так никогда не называли. Все эти люди вроде бы с каким-то «уклоном»… «Индивидуалист» и чуть ли не «мистик» Чаадаев, Грибоедов — «персидский министр» и чуть ли не Вазир-Мухтар, о «сдержанности» Якушкина речь уже шла. Тут остается одно из двух — либо что-то менять в нашей собственной системе социально-нравственных ценностей, либо что-то менять в названных людях. Последнее можно сделать литературным способом достаточно просто, что и делалось порой. Но занятие было вполне иллюзорным.
Читать дальше