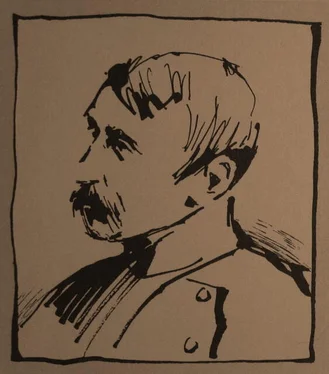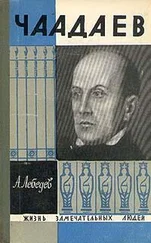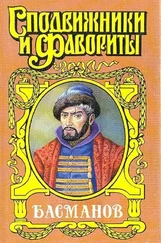Вольтер — графу
Трессану. 1746 г.
Вопрос о том, какие именно книги и каких авторов возбудили или способствовали возбуждению «свободного» или «превратного» образа мыслей, был обязательным в «вопросных пунктах» Следственного Комитета, даваемых подследственным декабристам. В самой постановке такого рода вопроса содержалось признание того, что сражение за овладение великим культурным наследием самодержавие проиграло и что оно уже осознало этот факт, как осознало и то, что это культурное наследие стало духовным и даже политическим оружием в руках декабристов. В ответах подследственных — имена Вольтера и Руссо, иных французских просветителей, но чаще всего имена представителей античной культуры, историков античности, прежде всего Плутарха. Плутарха и иных античных авторов декабристы получили, можно сказать, как раз из рук Монтеня. В ту пору Монтень во многом оказался связующим звеном и посредником в преемственной связи культурно-исторических времен, через него в значительной мере шла дорога, соединявшая юные идеи декабристов с классическими традициями свободомыслия. Но не только в том было его значение, что он умел перевести античную мысль на язык французского Просвещения, сделав ее доступной и внятной последующим культурным поколениям. Он был представителем того свободного «самомышления» (используя выражение Герцена), которое само побуждало к такому же типу мышления, к суверенности собственного образа мыслей, к тому, чтобы иметь свой взгляд на вещи, а не разделятьготовые мнения и общие взгляды, которое утверждало человека в праве на свой, личный образ мысли. А это было важно и имело огромные последствия во всем дальнейшем развитии русской мысли. Нет ничего удивительного в том, что «руссоист» Лев Толстой был почитателем Монтеня и что знаменитые «Опыты» были его настольной книгой, которую он перечитывал всю жизнь. Но удивительно, как четко, «безошибочно» история общественной мысли зачастую особыми знаками отмечает глубокое свое течение, свое «внутреннее русло».
«Я никак не припомню, чтобы кто-нибудь именно или чтение каких-нибудь книг исключительно возбудили во мне свободный образ мыслей».
Из ответов
И. Д. Якушкина на «вопросные пункты» Следственного Комитета
У Якушкина свободный образ мыслей был уже в крови, не ощущался как привнесенный элемент и не был таким элементом. В крови был уже, скажем, и Монтень с его смеющимся скептицизмом и неколебимой независимостью стоического жизнеутверждения.
Вскоре после объявления приговора и совершения казни Якушкина вместе с некоторыми другими осужденными отправили поначалу в Финляндию в Роченсальмскую крепость. Дело было в августе 1826 года. Около Петербурга горели леса, «солнце, — пишет Якушкин, — виднелось сквозь дым, покрывавший город и его окрестности, как обгорелая головня; ночью же ни зги не было видно». Бедствие в окружающей природе как бы нарочно подчеркивало мрачную сторону событий, служило им фоном. Но Якушкин словно знал, что самое тяжкое нравственное испытание позади, словно чем-то уже был огражден от всех удручающих впечатлений окружающего бытия. Так и будет потом с ним всегда, на всю жизнь. «Переезд от Петербурга до места нашего заключения был для нас приятной прогулкой… По приезде на каждую станцию живой разговор между нами имел также свою увлекательность». Это — стиль Якушкина. Потом, во время «противувольных» своих странствий по Сибири, к местам своего заточения, а позже — на поселение в Ялуторовск, Якушкин, отмечая, к примеру, что в термометре «ртуть стынет», не пропустит случая сказать о красоте окружающего пейзажа. По дороге в Роченсальм у Якушкина произошел вроде бы и шутливый, но важный разговор с Александром Бестужевым. «Я старался доказать ему, что несостоятельность наша произошла от нашего нетерпения, что истинное наше назначение состояло в том, чтобы быть основанием великого здания, основанием под землей, никем не замеченным: но что мы вместо того захотели быть на виду для всех, захотели быть карниз. «И потому упали вниз», — сказал наш фельдъегерь, стоявший сзади меня и о присутствии которого мы совершенно забыли… Мы все расхохотались».
Заключенных содержали скверно — холод и голод едва не погубили их тут же. Да и вообще надо было уже набираться навыков новой жизни.
«Книг у нас было очень мало… Я имел возможность захватить с собой только Монтеня». Печать была мелкая, читать было трудно — в каземате не хватало света, страдали глаза.
Читать дальше