Он соглашался с Гегелем, что философия — это наука, но был убежден, что наука эта тождественна религии. Вывод этот Ильин обосновал в своей статье «Философия как духовное делание» (1915). «Философия, — утверждает он в ней — это знание истины, религия — вера в нее». В этой же статье Ильин определил три разновидности неофилософствования, иронизируя над ними. Первая — «софистическая апология сильного», то есть подмена очевидности авторитетом. Вторая — превращение философии в тайноведение. Здесь он, в свою очередь, отметил два варианта: в первом из них «владеющий тайной» от души старается передать ее своим адептам, но усилия его напрасны, ибо тайны нет: другой вариант — тайна остается сокрытой, и тайновидец не спешит, а порой и не в состоянии раскрыть ее (бывает, что он просто морочит голову и себе и другим). Третья — формальная игра в дефиниции и силлогизмы.
Доктор философских наук, писатель и публицист А.В.Гулыга в своей статье об Ильине писал: «Все три отмеченные Ильиным умственных порока — авторитетопоклонство, тайноведение, понятийное мозгоблудие — живут и поныне. Сарказм Ильина не потерял актуальности, как и его твердое убеждение в том, что истина существует и надо жить ради нее» [10] Гулыга А.В. Творцы русской идеи. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 229.
.
Продолжая традиции русской философии. Ильин создает собственное учение. Учение это отличает подлинная доступность (его труды не перегружены чисто теоретическими философскими выкладками, научными терминами). Его занимают темы, определяющие жизнь любого человека: любовь, вера, родина, смысл жизни, добро и зло… Ильину удалось совершить невозможное — рассказать о русской душе на языке философии. Он создал феноменологию души, особый категорийный строй: совестная интуиция, просветленная чувственность, предметная очевидность, философский акт и др. Свои задачи Ильин при этом определил так: «…я пытаюсь заткать ткань новой философии, насквозь христианской по духу и стилю, но совершенно свободной от псевдофилософского отвлеченного пустословия. Здесь нет совсем и интеллигентского „богословствования“ наподобие Бердяева — Булгакова — Карсавина и прочих дилетантствующих ересиархов… Это — философия простая, тихая, доступная каждому, рожденная главным органом Православного Христианства — созерцающим сердцем, но не подчеркивающая на каждом шагу своей „школы“. Евангельская совесть — вот ее источник» [11] Цит. по: Полторацкий Н. Иван Александрович Ильин. Тенефляй,1989.С.64
. Ильин обращается к читателям статьи с вопросом: откуда известно, что изучаемый предмет систематичен и живет по законам человеческой логики (пусть и диалектической)? Неужели, пишет он, шапка определяет размер головы? Жалок и смешон, по его мнению, философ, воображающий себя бухгалтером, наводящим порядок в бумагах, или унтер-офицером, командующим шеренгой понятий. Он призывает честно и ответственно изучать предмет. Созерцание, утверждает он, — средство; очевидность — цель. Очевидность — вообще любимое слово, любимое понятие Ильина.
«Человек, никогда не переживший очевидности, не знающий, как слагается и проверяется это своеобразное переживание, и как оно внутренне „выглядит“ — создаст в теории познания только игру мертвыми понятиями и пустые конструкции… Акт очевидности требует от исследователя — дара созерцания и при том многообразного созерцания, способности к вчувствованию, глубокого чувства ответственности, искусства творческого сомнения и вопрошения, упорной воли к окончательному удостоверению и живой любви к предмету», — писал он в статье «Путь к очевидности».
Для Ильина очевидность — свет. В той же статье он уточняет: «…не всякая свеча дает нам очевидность. Бывают галлюцинации и миражи. Очевидность — это свет, исходящий из самого предмета, охватывающий нас предметной силой, покоряющий нас, к нему человек должен пробиться… Очевидность воодушевляет человека и просветляет душу. Она дает ему опору, позицию, характер. И вот он, здоровый и целостный. Любит то, чем живет, живет тем, что любит. За это борется до конца своих дней, и если он гибнет в борьбе, то гибнет как победитель».
Ильин никогда не признавал философии ради философии. Он писал только о том, что волновало его самого, чем жила русская общественность. Писал аргументированно и честно, не заискивая перед властями и мировыми авторитетами. Значительной интеллектуальной смелости потребовала от него работа, полемически направленная против толстовской философии непротивления «О сопротивлении злу силою». В ней он резко критиковал учение, оказавшее разлагающее воздействие на российскую интеллигенцию.
Читать дальше
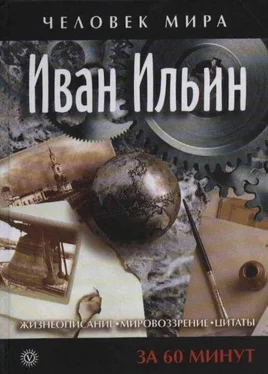
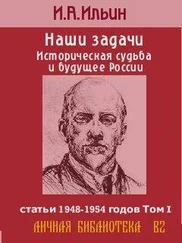

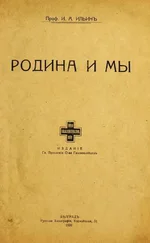


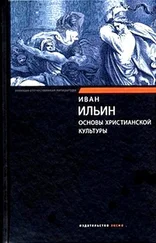
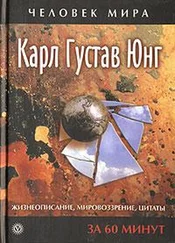

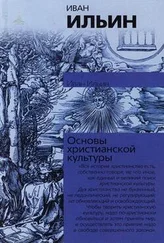
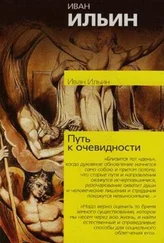
![Иван Ильин - Национал-социализм - 1. Новый дух [дореформенная орфография]](/books/403407/ivan-ilin-nacional-thumb.webp)