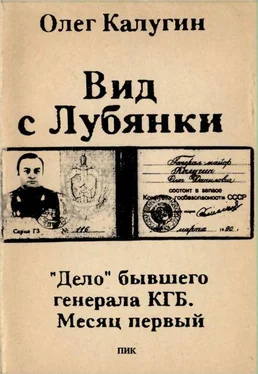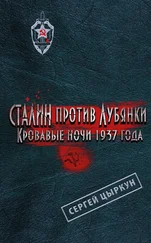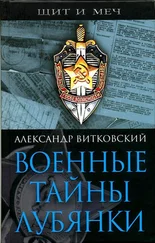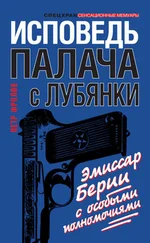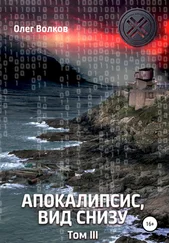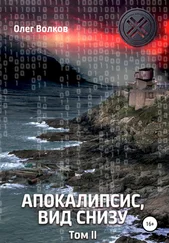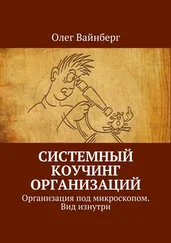("Московские новости", 8 июля 1990 г.)
Прочитал первую реакцию КГБ на выступление генерала Олега Калугина в газетах, на телевидении — и повеяло таким знакомым, таким многозначительным с Лубянки: нам известен Калугин, и мы еще скажем о нем свое слово! И сказал.
28 июня "Правда" со ссылкой на анонимных лиц в Центре общественных связей КГБ ударила по Калугину в лучших традициях гонений на диссидентов: по старинке ушла от ответа на конкретные заявления генерала, зато сосредоточилась на детальном перемалывании его, как оказалось, сомнительной личности. А 30 июня по представлению КГБ Президент лишил Калугина наград, Совмин — генеральского звания.
Многое в заявлениях КГБ рассчитано на простаков. Скажем, утверждения о том, что после освобождения Калугина от руководства управлением внешней контрразведки оно "заработало так, как оно и должно было бы работать". Разведка — это не колбасный завод, где новый директор может заменить всю технику и кадры, наладить мясопоставки и завалить своей продукцией всю страну. В разведке успехи в большой степени зависят от долговременных факторов и от случая (например, предложение секретной информации сотрудником ЦРУ); механизм, кадры и методы работы разведки не могут вдруг кардинально меняться с приходом и уходом нового начальника. Очень часто зерна, заложенные в прошлом, дают всходы лишь в будущем. Перемещения в руководстве меняют, конечно, климат в подразделении, но успешная вербовка ценного источника, позволившего вскрыть целую сеть иностранных агентов, так же зависит от руководства, как зависит от президента Академии наук важное открытие, сделанное его подчиненными.
Выступление Калугина стало сенсацией, для советской аудитории, на Западе удивило лишь своей смелостью, ведь ничего принципиально нового Калугин не открыл. Всему миру известно и о преследованиях диссидентов, и о политическом сыске, и о полицейских методах работы, и о полной бесцеремонности при прослушивании или перлюстрации. Пострадавшими написаны горы статей и мемуаров. Да что там пострадавшие! Предатели КГБ, ушедшие на Запад, настолько приоткрыли завесу тайны, что порой кадровый сотрудник КГБ хуже знает деятельность свой организации, чем ординарный американский советолог. Букет предателей и перебежчиков из всех звеньев КГБ (как, впрочем, и других влиятельных организаций) в последние два десятилетия расцвел пышным цветом. К этому стоит добавить, что комиссии американского сената и конгресса неоднократно обсуждали деятельность КГБ и соответственно публиковали свои доклады и в связи с показаниями ушедшего на Запад генерала Орлова (ушел он еще до войны, но на показания решился гораздо позже), и о связи нынешнего КГБ с террористами (тут, кстати, американцы сели в лужу: несмотря на все старания и натяжки, прямой связи не обнаружили), и о дезинформационных мероприятиях КГБ ("свидетельские показания" давал сотрудник ПГУ Левченко, сбежавший в Японию). Настольными книгами любого западного гражданина, интересующегося комитетом, стали две книги Джона Бэррона о КГБ, переведенные, кстати, на русский язык "Посевом"… Много, конечно, в эти книги вкраплено клеветы и ерунды, и деятельность КГБ раздута не меньше, чем "советская военная угроза", но на войне, как на войне: преувеличение мощи противника не только дает дополнительные бюджетные ассигнования, но и повышает собственную значимость и престиж в глазах общественного мнения — разве не то же самое делает КГБ в отношении ЦРУ?
Нет, информация Калугина никого в КГБ не удивила и не могла удивить. По большому счету, Калугин сделал для поднятия престижа КГБ больше, чем официальные трубадуры: он показал, что в комитете работают смелые люди, обеспокоенные состоянием перестройки в организации. Словами о перестройке уже не удивишь, а народ видит, что почти в любом министерстве и даже в гостиницах сидят сотрудники КГБ — воз и ныне там!
Какая может быть перестройка, если часть руководства КГБ и часть его верхнего слоя были архитекторами политики
КГБ в период застоя, формировали его партийно-кадровые структуры? Эти люди весьма почтенного для такой работы возраста продолжают бороться за свое политическое выживание. Как они могут перестроиться? Руководят и тянут за собой остальную массу комитета, которая, в основном, не имеет никакого отношения к неблаговидным делам застоя, но трудно воспринимает отход от стереотипа врага (что вполне естественно), привыкла подчиняться голосу сверху и боится за свои служебные места. А кто не боится? Разве не пугает пример разогнанных служб Восточной Европы? А сокращения, о которых только и речь? Ведь если говорить начистоту, то сотрудник КГБ в социальном плане защищен еще меньше, чем армейский офицер. Начальство всевластно. Осмелится критиковать — тут же ловко подставят ножку, напишут плохую аттестацию, не пренебрегут и доносами! Если сотрудник осмелится встать на дыбы, то не просто уволят, а так уволят, что ни одна приличная организация на работу не возьмет. И куда он пойдет жаловаться? В суд? В комиссию по обороне и госбезопасности? Кто сумеет его защитить? Да на запрос самой высокой инстанции КГБ всегда сможет ответить: увольнение товарища связано с некоторыми сугубо оперативными вопросами, разглашать которые мы не имеем права. И точка! Кстати, даже без "помощи" КГБ на новую работу непросто сотруднику устроиться: увы, но в каждом бывшем кагэбисте видят стукача. Хотя, если говорить откровенно, то стукачи- добровольцы, вкрадчивые, вечно сигнализирующие и пекущиеся о чистоте идей и нравов, сто очков вперед дадут по этой части любому сотруднику КГБ!
Читать дальше