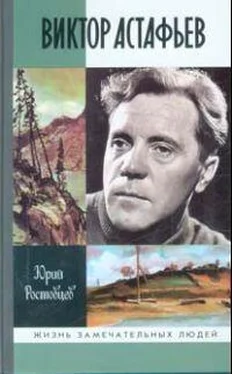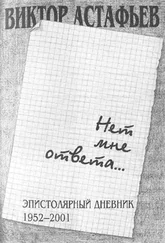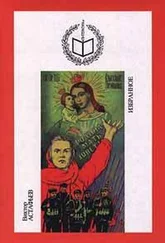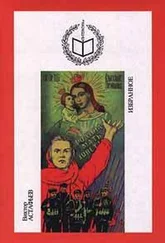Посылаю Вам свою новую и лучшую книгу. Желаю Вам и Вашим парням доброго здоровья и всех благ земных.
Передаю привет Алексею Кондратьевичу с супругой и Ивану Вересиянову (последняя фамилия написана неразборчиво, может быть, следует читать Верещагину. — Ю. Р.) с супругой.
Еще раз всего Вам наилучшего.
С приветом — мои домочадцы и я —
В. Астафьев.
28 ноября 1968 г.».
Надпись на подаренном деревянном панно:
«Евгению Васильевичу Бахтину — однополчанину, собрату по боевым дням и фронтовым окопам, командиру родного 3-го дивизиона, в день его 50-летия от бывшего солдата взвода управления.
В. Астафьев, г. Вологда, 1970 год».
В альбом Е. В. Бахтина аккуратно вклеена газетная публикация Виктора Астафьева. Это — «Последний осколок», включенный позднее автором в цикл «Затеей». Пожалуй, ничто так не воссоздает переживания солдата Астафьева, его впечатления от войны, как этот небольшой рассказ, в искренности которого невозможно усомниться.
Невольно вспоминается одна наша давнишняя беседа с Виктором Петровичем. Был он тогда заметно взволнован, горячился:
«Порой говорю с ветеранами, и кажется, что они на другой войне были, чем я. Хочется рассказать о быте войны — как жили, как пахли окопы. Почему нас не снабжают, а бьют. Куда и как мы сами палили. Первый убитый. Свой. И первый убитый тобой. Надо написать обо всем том чудовищном, что я видел…
— Что?! — после паузы восклицает почти в ярости на мой немой вопрос Астафьев. — Может, раскатанных немецкими танками наших солдат забыть?! Не нравится такая правда войны?!
Обо всем этом должны были написать те, кто сидел в окопах… Дать буквальные ответы на главные вопросы: что я видел и знаю о войне? То, что я там пережил.
Вот я сам именно такой книгой мучаюсь.
То, что я лично видел, знаю о войне — обязан написать!»
«Помню отчетливо: кухня артдивизиона, вкопанная в косогор, а я, согнувшись в три погибели, под ней лежу и плачу. Повар заглядывает под кухню и хохочет. Друг мой, Слава Шадринов, с досадой и сочувствием спрашивает: „Ну, чего ты орешь-то? Чего? Все уж!..“
Это значит — опасность миновала и паниковать не надо. А я все равно плачу. Ведь и солдат уже опытный, битый, медали на груди, но слезы бегут, бегут.
Гимнастерка на мне разделена в распашонку, булавкой на груди схвачена. Перебитая рука толсто примотана к двум ольховым палкам и за шею подвешена. Бинты промокли, гимнастерка, штаны, нижняя рубаха и даже сапоги в кровище. Утирая слезы, я и лицо в крови увозил.
Друг машину попутную ждет, чтоб отправить меня в санроту и досадует: „Да не трись ты рукой-то, не трись!..“
Больно. Конечно, больно. Иголкой ткнут — и то больно, а тут рубануло так, что и кисть руки назад передом обернулась. Однако реву-то я не только от боли, но и от непонятной обиды, растерянности и усталости — недовоевал вот, а так хотелось до этого самого „логова“ добраться, от ребят отрываюсь — от семьи, сказать. Как быть без них и жить? Не знаю, не ведаю, разучился жить один. Инвалидом, наверное, стану. Кому же охота быть инвалидом? Со Славкой расставаться жалко. И вообще все как-то не так, несправедливо, неладно…
Повар кашу горячую в котелке сует. „Пошел ты со своей кашей!“ — взревел я…»
Но это — когда все уже самое страшное позади. Однако в память на всю жизнь врезались детали боя — одного эпизода из той войны, какая она есть на самом деле:
«…Сзади горели нефтеносные промыслы в районе польского города Кросно. Наши части углубились в горы по направлению к Словакии. Немцы пускать нас вперед, естественно, не хотели. Шли упорные бои. Было сухо, душно и очень напряженно. Войска, втянувшиеся в расщелину гор, находились в полуокружении.
В тот день мы окапывались на склоне горы, обочь которой бежал ручеек, а на оподоле рассыпались дома деревушки. Нас все время обстреливали. Я был связистом, копал тяжело, и я это дело не любил, но все же копал, помня заповедь: чем глубже в землю, тем дольше жизнь. Вот и рубил я кайлом каменистый склон, подчищал лопаткой щель, на бруствере которой стояли два телефона.
Ударил разрыв, я спрятался в щель, подождал, пока осколки пролетели надо мной, и, вставши, потянулся к трубке телефона, чтобы проверить связь. И в это время зафурчал рябчиком надо мной осколок на излете да как саданет под правую лопатку, ну ровно молотком. Боль оглушительная, тупая, такой при ранении не бывает. При ранении сквозняком вроде бы прошьет все тело, в голове зазвенит, и сразу горячо и тошновато сделается — потекла кровушка.
Читать дальше