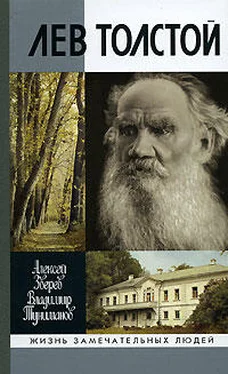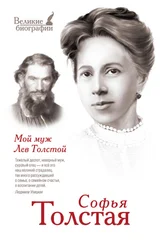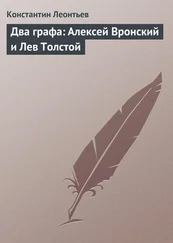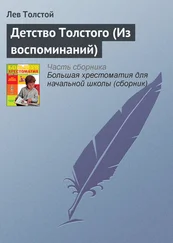Бедствовать в плену графу не пришлось, так как имевшиеся при нем драгоценности его слуга успел спрятать у себя в сапогах, которые носил, не снимая. Вряд ли, состоя адъютантом генерала Горчакова, своего свойственника, граф испытывал такие уж суровые лишения и на войне, однако, как писал он из армии сестрам, «военное настроение» — не его стихия, намного приятнее «жить в безвестности с милой женой», чем стать свидетелем «истребления рода человеческого».
Эти мечты стало возможным осуществить только после отставки в 1819 году, когда Николай Ильич был по болезни уволен из кавалергардов в чине подполковника. В Кавалергардском полку тогда служили Лунин, Пестель, Ивашев, но к поколению будущих декабристов, вернувшихся из европейских походов с вольнолюбивыми чаяниями, он себя отнести не мог. Николай Ильич отличался умеренностью и даже консервативностью. Однако аракчеевское время ощущал как несовместное с его чувством чести и служить не захотел: ни в конце царствования Александра, ни в начале николаевского правления. Принадлежа не к либералам, а, как свидетельствуют «Воспоминания», к числу «немного фрондирующих правительство», Николай Ильич, насколько возможно, пробовал избегать всякого общения с чиновниками, «никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона». Воспитателем солдатских сирот он, скрепя сердце, стал от безвыходности и пробыл им недолго, всего полгода.
За княжной Волконской давали Ясную Поляну, к ней по смерти отца в феврале 1821 года перешли и другие имения, а также дома в Белокаменной. Николаю Ильичу представился случай поправить вконец расстроенные дела, расплатившись с огромными долгами Ильи Андреевича. Танинька Ергольская, троюродная сестра, которая воспитывалась в доме Ильи Андреевича и с детства внушала юному графу самое нежное чувство, встретившее не только взаимность, а и глубокую, пожизненную любовь, была принесена в жертву прозаической необходимости. Осталось несколько сентиментальных стихотворений, которые граф писал в альбом своей Таниньке:
Что делать мне с тобой?
Люблю тебя я всей душой.
Любить век буду
И покорный слуга пребуду.
Напрасные клятвы — под венцом он стоял с княжной Волконской. Она не обольщалась относительно пламенности его чувств. Но ей шел уже тридцать второй год и слыла она «старой девушкой, дурною собой» — так ее аттестовал известный московский сплетник, почт-директор Булгаков. Пересуды, насмешки наверняка не остались тайной для Марии Николаевны, но что с того? Страсти к суженому не испытывала и она, ясно сознавая свои побудительные мотивы: ей нужна была семья. Таниньке, теперь уже Татьяне Александровне, она, нисколько не ревнуя к былому, как-то написала: «Говоря откровенно, счастие прочное и действительное зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, где все бывает окрашено всесильным воображением?» Мария Николаевна не решилась бы ответить на этот вопрос категорическим «да», однако зрелый возраст предъявлял свои требования, а ее так воспитали, что веление долга неизменно брало верх над порывами романтической фантазии.
* * *
Личностью она была намного более сложной и яркой, чем ее не очень хорошо образованный, можно сказать, недалекий супруг.
Лев Толстой фактически не знал матери — она умерла, когда ему не было еще и двух лет. А в семье даже не осталось ни одного портрета. Под старость он пробовал вообразить, как она выглядела, всматривался в тот детский силуэт, на котором различим только резко обозначенный нос и прядки непослушных волос, спадающие к плечам, — других изображений нет. Сестра Маша, осиротевшая, когда ей было всего несколько месяцев, считала, что их мать была маленькой, худощавой, с мелкими чертами лица — темно-серые глаза, глубокий взгляд. Видимо, кто-то ей подробно описал внешность Марии Николаевны.
В памяти Льва Николаевича сохранился «только ее духовный облик». «…Все, что я знаю о ней, все прекрасно», — писал он. Вот какие материнские черты он называет особенно ему милыми — скромность, которая заставляла ее скрывать, насколько она и в культурном, и в нравственном отношении превосходит мужа да и всех вокруг, кроме Татьяны Александровны, последовавшей в Ясную Поляну за сочинителем обращенных к ней чувствительных виршей; безразличие к чужим мнениям и способность никого не осуждать; наконец, правдивость чувства: ни следа аффектации и жеманства.
Читать дальше