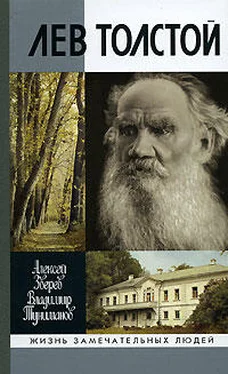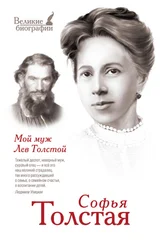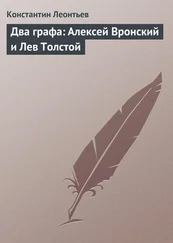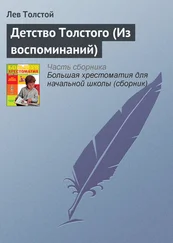Едва Пирогово перешло к Толстым, как прежнего владельца хватил удар, а его сестра заявила права на наследство. Она составила прошение на имя московского генерал-губернатора, в котором утверждала, что брата ограбили, воспользовавшись его беспомощным состоянием. В Пирогово явился ее приказчик с требованием не исполнять никаких распоряжений нового барина, а сама она всеми способами пыталась прорваться к лежавшему при смерти брату, чтобы он подписал бумагу, которая аннулирует купчую. Темяшева пришлось увезти от ее домогательств в Тулу, туда же, чуть не загнав лошадей, примчался из Москвы Николай Ильич. Весь день 21 июля он, не передохнув с дороги, ходил по управам, а к вечеру решил навестить Темяшева. Из окон видели, как он, совсем рядом с домом, вдруг упал и не поднялся. Вызванные врачи уже ничем не смогли помочь.
Осмотрев тело, обнаружили, что при графе нет ни денег, ни векселей. Возникло подозрение, что кто-то его обокрал, а предварительно ему подмешали яд. Векселя вскоре принесла на московскую квартиру какая-то нищенка, а вот деньги так и не отыскались. Участниками возможного преступления были названы сопровождавшие Николая Ильича камердинеры Петруша и Матюша, но улик против них следствие не нашло и дело закрыло. Скорее всего, его и не было.
Похоронили графа рядом с женой, в часовне на кладбище села Кочаки поблизости от Ясной. Льву Николаевичу на всю жизнь запомнился день, когда служили панихиду в Москве. Было ему, по собственным словам, грустно, но он чувствовал в себе какую-то важность, новую значительность — ведь отныне он круглый сирота, и все про это знают и будут относиться к нему не так, как прежде. И только позднее пришло настоящее чувство утраты, о котором говорят «Воспоминания»: «Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, пока он не умер».
* * *
Странная фраза там же, на страницах прерванной автобиографии, написанной в 1903–1906 годах: от детства остались только радостные воспоминания, «грустных, тяжелых не было». Память сохранила отчетливое сознание того, что мир загадочен и удивителен, удержала лишь «это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни». Тени едва различимы, повсюду солнце и радость. И никак не оторваться от этого «яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства».
Зная остроту толстовского переживания смерти, как не заподозрить, что происходит какая-то аберрация и сознание просто гонит прочь все драматическое, все жестокое, что было в эти ранние годы. Но ведь «Воспоминания» нельзя воспринимать как документ. Это художественный текст, в сущности, такой же, как автобиографическая трилогия, которую начинал писать Лев Толстой, — просто здесь сохранены реальные имена и события воссозданы в чуть большей степени соответствия реальной хронике. А в художественной вселенной Толстого детство неизменно представало как момент истины, когда человеку открывается его настоящая природа и предназначение на земле. Никогда больше нам не дано с такой ясностью, так достоверно ощутить, кто мы такие и зачем живем. С возрастом это чувство высшей правды человеческого существования притупляется либо пропадает вовсе. В детстве оно приходит естественно и не требует корректировок. Поэтому возвращение к детству для Толстого сопрягается с чувством, как много мы потеряли, когда окончилась эта пора, а сами картины детства приобретают у него оттенок идиллии.
На самом деле идиллии не было.
Был опустевший яснополянский дом, была тетушка Алин со своей восторженной религиозностью и вечным кисловатым запахом несвежего белья. Были любящая и жалостливая тетенька Ергольская, а с нею приживалка Наталья Петровна. К ним в комнату бежали, когда охватывало чувство тоски и одиночества — а так бывало, — и тут же появлялись пряники или финики, и чудесное воспоминание осталось от этих поздних сидений в кресле, пока старушки, накинув платки поверх ночных рубашек, раскладывали пасьянс.
Потеряв сына, бабушка не прожила и года. Ей все грезилось, что Nicolas вернется, она его видела в соседней зале и принималась разговаривать с тенью. И для Татьяны Александровны это была страшная утрата, которая, как записано в ее дневнике, «растерзала мне сердце». Когда умирала бабушка, детей привели к ней прощаться, и на всю жизнь запомнилась ее распухшая от водянки, белая, как подушка, рука, которую надо было поцеловать.
Первую зиму после смерти отца мальчики провели в Москве на Плющихе, с бабушкой, Алин и гувернерами, но считали дни, когда их наконец повезут домой, в Ясную. Оттуда в Москву вернулись только Николенька и Сережа, двух младших вместе с Машей и Дунечкой оставили на попечение тетеньки Ергольской. Прежний быт с роскошествами, от которых бабушка и не помышляла отказаться, стал не по средствам.
Читать дальше