Г. Артозеев
ПАРТИЗАНСКАЯ БЫЛЬ

В сумеречный осенний вечер мы уходили из своего леса.
Отряд был разбит. Нас осталось пять человек. Надо куда-то идти, что-то делать, — надо жить.
У всех есть оружие. Я даже с пулеметом Дегтярева; к нему три диска. Есть у нас на всех одна полевая сумка, почти доверху наполненная мукой. Немного сухарей.
Идет холодный дождь. Одеты плохо. Но это бы еще ничего. Беда, что нас так мало. Мы уже не партизанский отряд, вообще — не сила.
Где-то в других участках этого большого леса, верно, есть еще наши ребята. Но где?.. Мало нас осталось в живых; это мы знаем.
Чтобы жить, надо найти другой отряд.
На Черниговщине лесов много. Может ли быть, чтобы в других районах не оказалось партизан!.. Только бы удалось проскочить полицейские заставы, не нарваться на врагов по дороге.
Мы быстро шли по знакомым местам. Тропинки хорошо известны — ведь лес был нашим, партизанским. Вот скоро пересечем дорогу в том месте, где недавно мы так удачно захватили грузовик с медикаментами. Дорога и сейчас не пуста. Явственно слышен шум. Он нарастает. Движется не одна машина, а целая вражеская колонна.
Конечно, можно бы переждать в сторонке. Но партизанская привычка тянула поближе к врагу — посмотреть, что за силы идут, хотя в нынешнем положении мы не могли нанести им урона.
Мы схоронились в кустах у дороги, стали ждать. Ждали долго. Колонна шла медленно. То ли размытый дождями путь был неудобен, то ли машины нагружены слишком тяжело?..
Вот появились первые грузовики. Считаем: восемь, пятнадцать, двадцать пять. А потом — тягачи с орудиями. Потом — танки. Кажется — век прошел, а они все движутся.
Холодно, мокро, страшно: нас так мало. Что мы можем сделать? — Нет нашего отряда, нет силы, нет даже смелости, может, потому, что смелость сейчас — просто глупость.
Очень хотелось, чтобы скорей уж проехали: смотреть в бессилии на врага — дело тяжелое.
Но едва с наших глаз скрылся хвост колонны и мы поднялись, чтобы идти дальше, как на дороге появилась группа пеших солдат. Они вели на поводках немецких овчарок.
Псы были большие, сильные. Мокрая шерсть слиплась, только уши торчат. Нелепо, что от этих собак, даже больше, чем от врагов, зависит сейчас жить нам или не жить?..
В сгущающихся сумерках собаки мне чудились везде. Когда же, наконец, отряд миновал нас и скрылся за поворотом, мы, ни слова не говоря, поднялись и побежали в противоположную сторону.
Уже давно позади дорога, а мы все не можем остановиться. На пути лежат поваленные буреломом деревья, растет густой кустарник, попадаются ямы, наполненные водой. Мы падаем и бежим снова. Пулемет скачет у меня на плечах, колотит по спине, по шее. Ужасно хочется пить.
Но вот — мы все-таки остановились. Сели на поваленное дерево. Я снял пулемет и пошел поискать лужу — напиться.
Передо мною блестит вода! Я наклонился, припал к ней губами, но едва успел немного освежиться, тревожное чувство заставило поднять голову.
По другую сторону лужи неподвижно замерла оскаленная собачья морда. Значит, шла следом, догнала.
Мне стало очень жарко. Потом сразу холодно. Осторожно потянул руку за оружием. А она — не шевелится, смотрит. И не лает. Только шерсть всклокочена, — у этих немецких овчарок всегда при виде врага шерсть поднимается на шее. А глаза дикие, встревоженные.
Замечаю: для овчарки, если действительно немецкая, пес выглядит плохо: те были свежие, холеные, а это — обшарпанная, с подтянутым животом.
И вдруг соображаю: волк! — и он даже рычать боится. Вот повернулся, прыгнул в кусты и затих. Я не тронул его, не послал вдогонку пулю.
Вернулся к товарищам и ничего не рассказал им. На душе было противно: мы сами, будто дикие звери, опасаемся встреч с людьми, крадучись подходим к селам, пьем воду из луж. Землю нашу захватили бандиты, убийцы. Вот — волка я не тронул, а любого из тех, что повстречал на дороге, мог, кажется, растерзать зубами.
— Что ты все бормочешь? — спросил меня один из товарищей.
Я даже не нашел слов, чтобы объяснить, какая меня охватила ярость.
— Нечего рассиживаться, пошли! — резко ответил я. Так начался наш путь из родного леса.
Не помню подробностей — кто как себя вел, о чем говорили. Говорили вообще мало — было слишком тяжело. Мы верили друг другу, знали, что никто не выдаст, не засядет на печке у добрых хозяев; если придется драться — не побежит никто… Но иногда мы ссорились.
Читать дальше
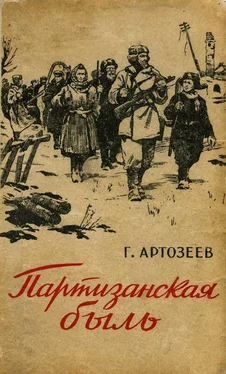






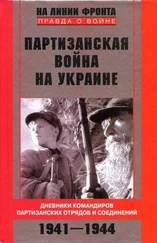


![Мунгит Балий - Партизанская война [СИ]](/books/413289/mungit-balij-partizanskaya-vojna-si-thumb.webp)


