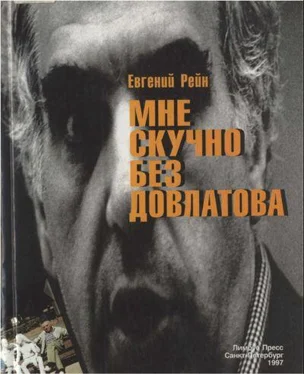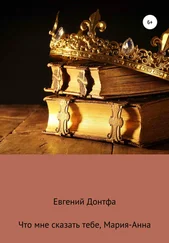и с вокзала зачем-то мимо пройдешь,
присядешь в квадратном скверике,
где Пушкин стоит лилипутом,
где можно сказать Лилипушкин
(а впрочем, сие не про нас).
Покуришь, подхватишь баульчик
и тронешься в путь-дорогу,
оглядываясь почему-то на восьмиэтажный дом.
А там и была квартира, квартира 44,
в которой когда-то водились ученые чижи.
Они собирались густо по праздникам и по будням,
они заводили хором насмешливую дребедень.
Их угощали чаем, они угощались пивом
и все, что здесь было, — было…
было раз навсегда.
Какая большая гостиная, она же большая
столовая,
она же приемная зала для сорока четырех.
Кто был там — не перечислить,
не стоит, там все бывали.
Но стали меня тревожить
те, что бледней других.
Вот эти четверо кряду, они и уселись рядом,
и что-то вроде им зябко, и чай в их чашках
простыл.
Чего они смотрят в окна
на крыши Санкт-Петербурга,
откуда ползет новогоднее солнце, как мандарин?
Хотите горячего чая?
Хотите горячего пунша?

Группа ленинградцев. Отъезд Л. Лосева в США.
Хотите горячего солнца первого января?
Зачем вам так зябко, ребята,
зачем вы уселись под елкой,
зачем еловые лапы обмотаны мишурой?
Вот «Брызги шампанского» танго —
танцуйте — вас приглашают.
Что же это такое?
Нет, они не хотят.
Я рассказать хочу тебе, учитель,
о том, как это было, как случилось,
но не могу понять всего, что знаю…
Ты более, я думаю, поймешь.
Как он любил балетные ужимки,
как он варил сибирские пельмени,
как шли ему вельветовые куртки
и усики холеные «пандан».
Он первым указал на вас, учитель…
Зайдешь, бывало, в Гавань на фатеру,
он защебечет, залепечет ловко,
туда-сюда по комнатам ведет.
А там уже кастрюли закипают.
Но если прибывали иноземцы,
он доставал крахмальную скатерку:
«Кулинария, — говорил он быстро, —
кулинария, сам я кулинар».
Постукивали серенькие рюмки,
и некий идол вскидывался томно.
Учитель, подскажите, подскажите,
а впрочем, мне неловко вас смущать.
Под утро пели долгие пластинки,
под утро плакал он по-итальянски,
ну, пьянство, пьянство — общий наш удел.
И он уехал, а куда не знаю,
и я уехал, а куда не помню,
и разбежались годы, как могли.
Но я явился на его поминки.
Как это все устроено, учитель,
вот это интересно бы понять.
«А прочее детали…» — вы сказали,
и я поддакиваю вам, учитель,
ведь мы стоим на краешке болота,
склубившего пиявок и гадюк.
Был крематорий пуст, и горстку пепла
рассыпали по улицам Нью-Йорка,
он сам придумал это, приказал.
Тут что-то древнеримское, учитель,
сказать «александрийское», учитель,
пожалуй, и покажется манерно…
Но все это детали — в них ли суть?
Он все искал последней вашей книги
рассыпанные милые страницы,
и, наконец, я думаю, нашел.
«Простая жизнь» — названье этой книги.
Была ли жизнь его совсем простая?
Она совсем простая не была.
Ну, вот и все, и на болоте зыбком
над ним змеится тот водоворот.
Широк Техас, игрок Техас,
ковбои, Кеннеди, нефть!
И если удача — она у вас,
а если уж нет — так нет!
За ним мелочуга всех Аризон
и конфедератский флаг,
а на дорогах под горизонт
ролл-ройс, «BMW», кадиллак.
Приехал, и все хорошо — о’кей,
сто тысяч — чудо оклад.
И по уик-эндам спешит фривей
в Мексику и назад.
На дальнем ранчо кипит бассейн,
и он сидит без штанов,
и вносят под полотняную сень
виски, джин и «Смирнофф».
Жена сияет, дети кричат,
брасс, кроль, баттерфляй.
Развеется шашлычный чад,
«бай-бай», что значит «прощай».
Бегут года, он здоров и цел,
и в доме простор зверью.
«Эссо», «Эксон», а также «Шелл»
берут у него интервью.
Но все скучнее горят глазки
у самых новых машин,
и все жирнее летят куски
друзьям, не достигшим вершин.
И офис тесен, и мерзок босс,
и близок далекий вид.
И он почему-то «брось, все брось»
ночью себе говорит.
Несносны семейные голоса,
жара приходит, пыля.
И в черную пятницу в два часа —
тоска, гараж и петля…

М. Глинка и В. Беломлинский
Мы жили на одном перекрестке улицы
Троицкой в Ленинграде.
Раза два-три-четыре в неделю
он заходил ко мне,
чаще всего утром,
прогуливая фокстерьера Глашу.
Стертые дерюжные брюки,
какая-то блуза из Парижа,
солдатские ботинки.
У меня часто бывало пиво —
сидели, сидели.
Но пиво было ему не по нраву,
он предпочитал грубые, тяжелые вина
«Солнцедар», «Агдам», «Три семерки».
Говорили, говорили, говорили.
Тогда он говорил лучше, чем записывал,
а потом писал лучше, чем говорил.
Читать дальше