Они стояли в широкой амбразуре окна и спокойно беседовали — великий полководец и великий художник. На Давида смотрели с завистью: завладеть вниманием генерала, даже на несколько минут, считалось редкой честью. Бонапарт, когда садились за стол, казался очень увлеченным беседой, он даже попросил разрешения обменяться местами с соседом Давида, чтобы продолжать разговор. Неизвестно, что толкнуло его на столь продолжительную беседу с художником: Бонапарт ничего не делал зря и не любил тратить время на пустые разговоры. Но в этот вечер он словно задался целью покорить живописца и вполне преуспел в своем намерении. Давид любовался его профилем, сухим и четким, как на римских геммах, изображавших цезарей: нацарапал торопливый набросок, подписав под ним «Генерал великой нации». Глаза жадно вглядывались в лицо полководца, отмечая характерные черты, необходимые портретисту: низкий лоб, губы, вырезанные надменно и капризно, высокие скулы, выступающий, резких очертаний подбородок. Он просил генерала подарить ему хотя бы один сеанс, он должен написать портрет. Как скучала кисть Давида по возвышенному и героическому! «Сабинянки» не могли насытить его искусство, давно и накрепко сросшееся с реальной действительностью.
Бонапарт согласился, хотя без особой радости. Обещал приехать в мастерскую в ближайшие дни. Давид вернулся к себе, воодушевленный мыслью о будущем портрете. Назавтра ученики по указанию Давида соорудили помост в ателье. Бонапарт, однако, не являлся. Художник послал ему несколько записок. Выяснилось, что генерал попросту забыл о данном обещании.
В конце концов он все же приехал, вызвав в Лувре чудовищный переполох: из всех мастерских выскочили художники, провожая глазами знаменитого гостя. Дюсси, ученик Давида, вбежал в ателье, дрожа от восторга, и провозгласил, словно актер, играющий трибуна во французском театре: «Вот он — генерал Бонапарт!»
Бонапарт вошел, не обратив внимания на всеобщее смятение, два офицера его сопровождали. Генерал был одет просто, как для обычной верховой прогулки: синий редингот поверх белого колета, высокий черный галстук. Пудреные волосы оттеняли загорелое лицо. Он бросил треуголку в кресло, раскланялся с Давидом. Пока Давид приготовлял краски и обсуждал с адъютантом детали костюма, в котором собирался писать генерала, Бонапарт внимательно разглядывал «Брута» и «Горациев». Лицо его при этом оставалось совершенно бесстрастным. Потом он надел мундир и занял место на помосте.
Давид принялся за работу. Композиция портрета была готова в его воображении, он даже успел набросать ее на холсте. Художник решил изобразить генерала без шляпы, с развевающимися волосами, держащим в руке мирный договор с Австрией. Сделав быстрый рисунок, Давид начал писать. Проложил тон мундира, воротника, каштановых волос, на которых тускло серебрилась пудра, смуглого лица. Сходство появилось сразу: воспоминания о первом впечатлении в Люксембургском дворце, сделанный там набросок, размышления минувших дней помогли Давиду. С едва тронутого красками холста смотрело сухое властное лицо с презрительным ртом и острым, выступающим подбородком. Глаза внимательно вглядывались в даль, словно озирая позиции неприятеля.
Сеанс продолжался около трех часов. Бонапарт прервал его вежливо, но решительно. Почти не взглянув на холст, он стал прощаться с Давидом.
— Напрасно вы не согласились приехать в мою армию, — сказал он, — следует ли избегать живописцу современности? Ваш ученик Гро стал настоящим солдатом и видел войну. Быть может, меня ждут еще более чудесные места. Поедемте. Я отправляюсь в страну, которая славится своим чудесным небом и ценнейшими памятниками древности.
Давид ответил ни к чему не обязывающей фразой, он не понял, о какой стране идет речь, и не стал расспрашивать. Быть может, знай он, о чем говорит Бонапарт, он согласился бы ехать. Неведомо для самого себя Давид одним из первых во Франции услышал о намерении Бонапарта отправиться в Египет.
Сопровождаемый все тем же всеобщим любопытством и восторженным шепотом луврских коридоров, Бонапарт уехал.
Давид был очарован: вновь ощутил он дыхание героизма. Наконец он узнал человека, столь счастливо сочетающего в себе внешность античного героя с доблестью Ганнибала, человека, видимо способного вдохнуть новую жизнь в ослабевающее тело Франции. Не ему ли суждено вернуть республике величие, утраченное с падением якобинского Конвента? Давид слышал, что генерал называл себя «Робеспьером на коне».
Читать дальше
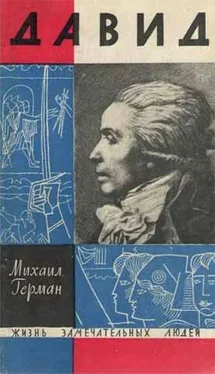

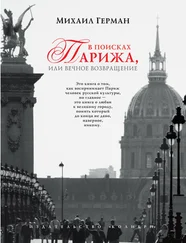







![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/413195/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi-thumb.webp)

