Никто из приехавших с императором не осмеливался выразить свое мнение, пока не скажет своего Наполеон… Он, однако, молчал, расхаживая вдоль полотна. В первые минуты он, правда, произнес несколько слов, слишком любезных для того, чтобы их можно было принять за полное одобрение. Но потом погрузился в молчание; оно затягивалось, в притихшей было свите началось жужжание, звенели шпоры переступавших с ноги на ногу маршалов и генералов. Император продолжал безмолвствовать, внимательно разглядывая полотно. Живопись его не интересовала, он просто с удовольствием вспоминал детали церемоний, узнавал отдельных людей. Молчание становилось неловким, но император, видимо, наслаждался, значительностью события и подготовлял зрителей к решительному моменту: он недаром учился у Тальма драматическому искусству. В то мгновение, когда ожидание стало вполне напряженным, он резко повернулся к Давиду и, сняв треуголку, высоко поднял ее над головой, салютуя живописцу.
— Давид, — сказал он громко, чтобы все могли слышать, — я приветствую вас!..
Это было сигналом к новой волне официального успеха. Почести посыпались на Давида. Кавалерский крест Почетного легиона вскоре сменился офицерским. Даже гонорар за картины был заплачен почти сполна. Галерею, где собирались разместить картины, посвященные коронации, сам император предложил назвать галереей Давида. «Раздача орлов» тоже была закончена. Со стороны могло показаться, что Давид никогда не был так высоко вознесен, как сейчас.
Но была и другая сторона жизни, порой не ощутимая, в которой Давид не всегда отдавал себе отчет; Давид оставался слугой — пусть самым доверенным — у господина, хоть и милостивого, но все же господина. Быть может, он стерпел бы личную зависимость — кто из художников в ту пору не был зависим? Но самое дорогое, единственное, что оставалось у Давида, его искусство, постоянно должно было приспосабливаться к желаниям Наполеона, нередко совершенно вздорным. И все же чувствуй он совершенную прочность своего положения первого живописца, ему было бы легче жить: но и здесь не мог он быть спокойным и уверенным. Нелепый парадокс, изощренная месть судьбы его преследовали — в нем, некогда оставившем в решительный момент Робеспьера, продолжали видеть якобинца. В этом не оставалось никакого сомнения, он не раз находил подтверждение этому в словах и поступках и самого Наполеона и многих других влиятельных людей. Ему не доверяли, просьбы определить и узаконить его прерогативы натыкались на решительный отказ. Ему не верили. Он ничем не стал до конца — ни революционером, ни царедворцем.
Год 1812-й был для Европы знаменателен многими важнейшими событиями, среди которых самым важным считали поход великой армии в Россию. Там, в далеких азиатских просторах, должна окончательно утвердиться власть Наполеона в Европе. Тогда британский лев задохнется в своем логове, отрезанный от всего цивилизованного мира, и Франция станет полновластной госпожой материка.
Ошеломляющие вести приносил световой телеграф из северной страны: пала древняя боярская столица Москва. Наполеон подписывал приказы за столом царей в крепости, которая называется Кремль. Потом узнали о невиданном пожаре, о бегстве императора сквозь огонь в отдаленный загородный дворец. Курьеры, добиравшиеся через сотни лье по разбитым дорогам, рассказывали страшные подробности кровопролитных битв, говорили, что в пустой, сожженной Москве голод, что не хватает провианта и лошадей. В салонах шептались о неуверенности императора, о переговорах, будто бы начинающихся с русским царем.
В конце октября стало известно: армия императора вышла из Москвы, опасаясь холодов русской зимы, и двинулась к границам. О проигрыше кампании еще не думали, но в победе начинали сильно сомневаться.
Рядом со всеми этими грозными событиями шла обычная, не отягченная политикой и войнами жизнь. Война была далеко. Все давно привыкли, что после долгих отлучек император триумфатором возвращается в Париж, везя в обозе чужое золото. Особого беспокойства не замечалось в Париже, светская жизнь била ключом, и салон 1812 года открылся при большом стечении публики. Это был обычный салон, не лучше и не хуже других. Картины сияли свежими красками, легкий говор журчал среди нарядных посетителей, временами движение начиналось в толпе, расступающейся, чтобы пропустить знаменитость.
Такое примерно движение произошло и тогда, когда на выставке появился живописец Давид. Он был знаменит настолько, что никто не называл его многочисленных званий, говорили просто «Давид». Молодые художники, только начинавшие писать, воспринимали это имя как имя классика, давно пережившего самого себя. Но человек, шедший по квадратному салону, не казался старым. Одетый изящно и по моде, он держался прямо, шел легко. И в бакенбардах и в каштановых, не тронутых пудрой волосах почти не видно было седины. Чуть искривленная линия губ сообщала лицу некоторую надменность, но глаза глядели доброжелательно, пристально, чуть устало. На лацкане темно-синего фрака алела розетка офицерского креста Почетного легиона. Рукою в светлой перчатке он поддерживал под локоть молодую женщину. Несколько учеников его сопровождали. Давид говорил одновременно со всеми, отвечал на поклоны и успевал внимательно смотреть на картины. Между тем ему недавно исполнилось шестьдесят четыре года, и женщина, шедшая рядом с ним, была его дочерью Эмилией, недавно вышедшей замуж и носившей теперь имя баронессы Менье.
Читать дальше
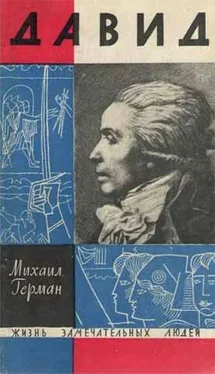

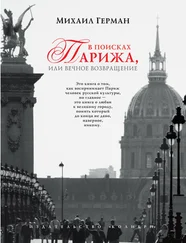







![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/413195/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi-thumb.webp)

