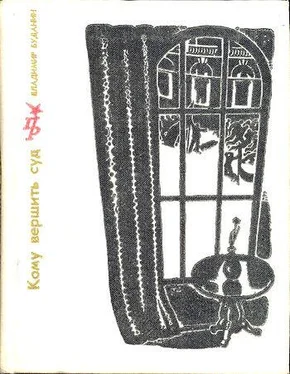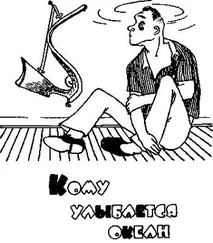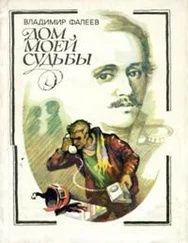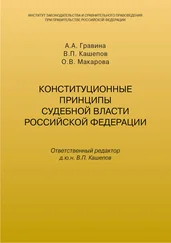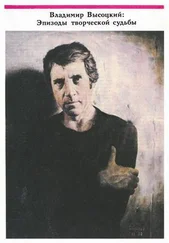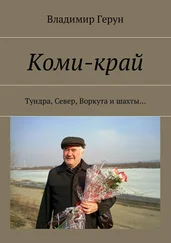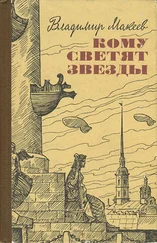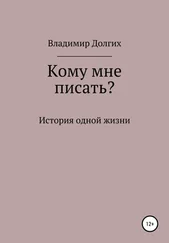— Почему же слепнет? Матери самой природой назначено детей своих оберегать.
Петр Ананьевич вспомнил жену Федулова Марию Павловну, некогда круглолицую румяную женщину, и их детей, Костика и Верочку, шумных, смешливых ребятишек. Их теперь не узнать. Мария Павловна истощала вконец, на лбу у нее пролегли морщины, щеки сделались изжелта-серыми, глаза постоянно налиты слезами. И дети бледны, замкнуты, почти неслышны.
Шли долго. Тревожно спали городские здания. Улицы были пустынны. Лишь однажды процокал подковами казачий разъезд да у двух-трех подворотен изваяниями окаменели караулящие кого-то дворники. Дальше темные громады зданий постепенно стали терять высоту, все чаще появлялись деревянные домишки окраин, прилепившиеся к черным мачтам сосен, запахло болотом и хвоей, послышался собачий лай.
— Все беды наши от необразованности, от темноты, — возобновил разговор Федулов. — Силы своей рабочий человек не сознает. Если бы образование пролетариату, он бы живо понял, как жизнь устроить надо. И то понял бы, что силы у него на это довольно. Я вот очень много думать стал и по себе вижу, что сколько ни учись на старости, все равно от невежества не спасешься. Рабочий класс надо смолоду учить.
— Это очень правильно, Леонтий Антонович. Но пока не более чем красивая мечта. Осуществить ее можно лишь после революции. Культуру человек должен с молоком матери впитывать. С детства его должны окружать книги, музыка, искусство. Если же дети растут в бараках, при иконах, пьянстве, площадной брани, что может принести им гимназия или университет?
— И вы, оказывается, об этом думаете?
— Конечно. Хотя, откровенно говоря, меня больше занимает другое — создать общество справедливости, общество без полиции, судов и тюрем. В нем не останется места преступлениям, злобе, неуверенности. Я, Леонтий Антонович, пытаюсь иногда вообразить жизнь далеких наших потомков. Свободные, не обремененные заботой о хлебе, расположенные друг к другу, они не боятся высказывать любую свою мысль, потому что в обществе нет ни злобы, ни страха, ни подавления. Им все на радость: и труд, и любовь, и искусство… Это будет общество истинной справедливости и равенства.
— Хорошо вы говорите. У меня даже на сердце потеплело от ваших слов. Может, ребятишки мои доживут, своими глазами увидят все это? Знать бы, тогда и помереть не страшно.
— Почему бы им не дожить? У них еще очень много лет впереди.
На углу Забалканского проспекта и улицы Четвертой роты за частоколом прутьев металлической ограды стояло двухэтажное здание, окруженное разросшимися деревьями. Резная дубовая дверь, мраморная лестница, ведущая от парадного входа в уютный вестибюль, потолок в богатой лепке, позолоченные изразцы — все здесь свидетельствовало о великолепии и утонченности, позволительной лишь тем, кто не стеснен в желаниях и возможностях. Здание принадлежало Вольно-экономическому обществу, созданному в шестидесятые годы для способствования промышленному расцвету пореформенной России. В этом великолепном особняке с середины октября стал помещаться Петербургский Совет рабочих депутатов.
На одном из первых заседаний депутат от большевиков Петр Ананьевич Красиков, товарищ Антон, как он теперь назывался, от имени своей фракции внес предложение о равном представительстве политических организаций в Исполкоме. Каждая из трех крупнейших партий — большевики, меньшевики и эсеры — должны быть представлены в Исполкоме тремя лицами. Меньшевики, имевшие в Совете перевес, восстали против предложения. Особенно горячился председатель Совета Хрусталев-Носарь. Им вкупе с эсерами, конечно, удалось бы похоронить предложение большевиков. Но на их беду, дело происходило не за границей, а в революционном Петербурге и не на собрании интеллигентов, а в Совете рабочих депутатов. Почувствовав, что масса их не поддержит, Хрусталев-Носарь и его сподвижники, а вслед за ними и эсеры пошли на попятный.
Восемнадцатого октября привычное многолюдье на улицах не таило в себе воинственности и ожесточения. У афишек, расклеенных на стенах, толпились возбужденные люди. К Невскому одна за другой прошли две колонны демонстрантов. Первая, по преимуществу из рабочих, — с красным флагом; вторая, весьма неопределенная по принадлежности, в ней и рабочие, и студенты, и чиновники, и прочая публика, — с портретами царя, хоругвями, трехцветными флагами. Эти пели «Боже, царя храни».
На Литейном, у здания Судебной палаты, Петр Ананьевич увидел довольно большую толпу. Подошел. Полная дама в манто вытирала платком слезы и, смеясь, говорила что-то стоящему рядом господину. Тот в ответ согласно кивал. Подле них другой солидный господин лобызался с бородатым мужиком. Шелестели слова: «конституция», «свобода», «цивилизация», «Европа». Петр Ананьевич протиснулся к афишке на стене. Прочел: «Высочайший манифест». И дальше: «Мы, Николай Вторый…» Царь объявлял о даровании невиданных в России свобод: слова, союзов, собраний…
Читать дальше