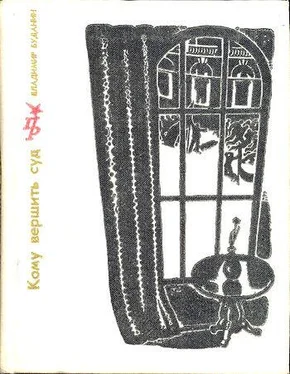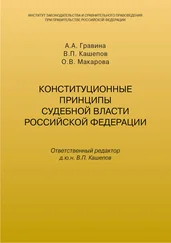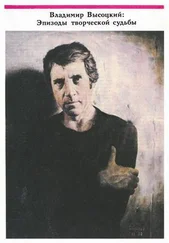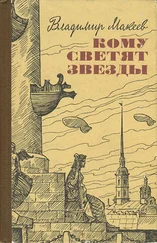— Что это с вами? — строго спросил Красиков.
— Нервов моих не хватает. — Голос матроса подрагивал. — Злость моя лютая сильнее всех законов.
— Нервами, товарищ Алексеевский, необходимо управлять. А законам следует подчиняться. — Петр Ананьевич тяготился этим разговором. Ему вообще с некоторых пор не по душе было пребывание Алексеевского в Следственной комиссии. — Я вот еще что хотел вам посоветовать. Человеку с вашими манерами едва ли следует оставаться у нас в Комиссии. Наше оружие, товарищ Алексеевский, — не маузер, а закон, справедливость. Мы обязаны дело свое вести так, как требует рабоче-крестьянское правительство. С врагами, конечно, нельзя шутки шутить. Но и ошибаться мы не имеем права, ибо наши ошибки непременно приведут к увеличению числа этих врагов.
Процесс близился к финалу. В заседаниях было много невиданно странного, даже противоестественного. Обвинительные речи произносились после защитительных, слово мог получить любой желающий из публики, свидетелей в общепринятом понимании не было. И вот осталось выслушать последнее слово подсудимой, после чего члены Революционного трибунала отправятся писать приговор.
Сначала Николай Дмитриевич испытывал чувство неловкости, схожее с тем, какое случается в театре, когда исполнитель главной роли не знает пьесы или фальшиво передает чувства своего героя. Большевистские судьи определенно оказались не на своем месте. На лицах у них не было ничего похожего на ту грозную судейскую твердость, какую присяжный поверенный Соколов привык видеть за два с лишним десятилетия адвокатской деятельности. Члены трибунала — да и председатель тоже! — выглядели скорее потерянными и робкими, нежели властными и неколебимыми. Когда интеллигенция, составлявшая внушительное большинство публики во дворцовом зале, устроила восторженную овацию подсудимой и стоя приветствовала графиню аплодисментами и криками «ура» и «браво», а сама София Владимировна растроганно и благодарно улыбалась, разве что не кланяясь, подобно актрисе, на лицах судей было такое смятение, что Соколову стало даже жаль их.
Но едва только председатель Революционного трибунала начал вступительную речь, у Соколова переменилось настроение. Со сцены звучало выступление отнюдь не беспомощное, скорее напротив — исполненное достоинства и уверенности в своей силе и правоте.
— Открывая Революционный трибунал в России, позволю себе напомнить ход истории русской революции и указать на ту роль, которую сыграл революционный трибунал во время Великой французской революции шестьдесят девять лет тому назад… — Жукову, должно быть, хотелось не ударить лицом в грязь перед избалованной речами выдающихся ораторов публикой. Он говорил отрывисто, делая продолжительные паузы.
Эта ничем не примечательная речь тем не менее взволновала и растрогала Николая Дмитриевича. Председатель трибунала, рабочий, имеющий, конечно же, весьма смутное представление о судебном красноречии, толково обрисовал задачи нового судебного установления. В его словах не было и намека на ту жестокую ослепленность, какую приписывали нынешние товарищи Соколова большевикам.
К подсудимой Жуков и остальные члены трибунала обращались достаточно вежливо. Хотя графиня отвечала на их вопросы дерзко и враждебно, никто из них ни разу не вышел из себя. «В смысле умения владеть собой, — подумал Николай Дмитриевич, — они превосходят, пожалуй, любое судебное учреждение прошлого».
Лишь во время выступлений обвинителей, рабочего Наумова и комиссара по делам просвещения Рогальского, Жуков несколько раз прерывал ораторов. Заканчивая выступление, Рогальский повернулся к подсудимой и сказал:
— Нет, не сохранностью этих денег руководствовалась гражданка Панина, а другим. И имя этому другому — саботаж. Благородная графиня позабыла о своем благородстве…
И тут Жуков его остановил:
— Воздерживайтесь от чересчур сильных выражений. Здесь у нас все-таки суд.
— У них, видите ли, «суд»! — съязвил кто-то за спиной у Николая Дмитриевича.
— Понял вас. — Рогальский послушно склонил голову. — Мне больше сказать нечего. Разве только то, что весь трудовой народ будет протестовать против снисходительности к саботажникам.
В коридоре за дверью с кем-то спорил Костя Федулов. Надеясь узнать, как идет дело, Петр Ананьевич вышел из кабинета. Федулов стоял среди своих красногвардейцев. Он был так увлечен разговором, что не заметил Красикова. С ним, должно быть, кто-то не соглашался.
Читать дальше