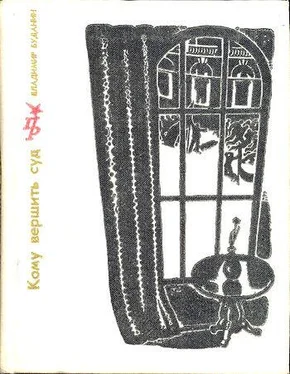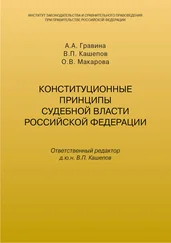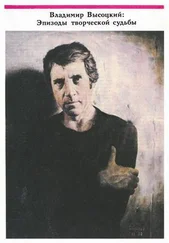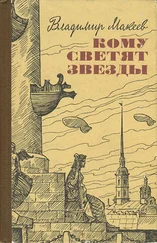— От нас, примечаете, сердечности требуют. Что значит контра! Сами расстреливали и вешали, а от нас требуют сердечности.
— Мы, товарищ Алексеевский, постараемся обойтись без расстрелов и виселиц. Мы — Советская власть.
Казалось бы, чепуха, мелочь, яйца выеденного не стоит. А вот засело в голове, будоражит память, мешает думать о делах сегодняшнего дня. Ну явился в Комиссию этот самый Яков Яковлевич Гуревич, матерый кадет. Так что ему в этом визите? Почему он, Петр Красиков, столько размышляет о нем?
В памяти одна за другой всплывают картины немыслимо далекой юности, первых месяцев студенческой жизни в сказочном Петербурге, встреч и знакомств с новыми людьми, прогулок по ночному городу, споров, мечтаний вслух, тайных сходок, первых рабочих кружков…
Гуревич никогда не был ему особенно симпатичен. В памяти, однако, засел прочно. Вместе с братом они всегда оказывались на виду. И на собраниях в университете, и в землячестве. А позднее, когда Красикова приняли в сословие присяжных поверенных, он вновь повстречался с Гуревичами. Младший теперь был его коллегой — адвокатом, старший служил по ведомству народного просвещения.
На политический небосклон Яков Гуревич взошел после Февраля. И как взошел! Имя его то и дело мелькало в кадетской «Речи», «энесовском» «Русском богатстве». Стали появляться портреты в иллюстрированных журналах, фамилия, упоминалась в репортажах с кадетских собраний и митингов, проводимых партиями правительственной коалиции. Красикова ничуть не удивило бы, если бы Гуревич сделался товарищем министра или даже министром при Керенском.
Но почему господин Гуревич приходил именно к нему, Петру Красикову, и пытался вызвать на откровенность, ожидая чуть ли не сочувствия? Неужели они рассчитывают на его понимание? Нет, разумеется. Он для них враг, непримиримый и опасный.
И все-таки Николай Дмитриевич завидует Якову Яковлевичу! Каким бы ни был этот новорожденный Революционный трибунал, а если Гуревичу дали для изучения дело и допустили на свидание с арестованной графиней, позволив продолжительное время беседовать наедине, следовательно, новая судебная власть не имеет в виду с первых шагов отступать от принятых во всех цивилизованных странах норм уголовного процесса. Если они, судьи-большевики, намерены соблюсти хотя бы видимость объективности, то и за это надо отдать им должное, ибо царский суд в трудное для самодержавия время менее всего был озабочен соблюдением внешней благопристойности. Достаточно вспомнить «скорострельную юстицию» после пятого года.
Безусловно, убеждать судей-большевиков, судей-рабочих, что графиня, утаившая от их власти принадлежащие, как они полагают, трудовому народу деньги, достойна снисхождения, — занятие совершенно безнадежное. Осудив Софию Владимировну со всей строгостью, они по-своему будут правы.
Утром следующего дня Николай Дмитриевич вошел в уютный зал дворца великого князя Николая Николаевича. Никто из его соседей по рядам для публики не догадывался, очевидно, каким смятением охвачен присяжный поверенный Соколов.
Он в зале суда! На сцене длинный стол, покрытый красной тканью. Позади кресло с высокой спинкой для председателя. Слева и справа от него по три стула для членов суда. Левое крыло сцены отведено под скамью для почетных гостей и судей очередных смен, в правом крыле, у стены, скамья подсудимых. Друг против друга размещены столики для обвинения и защиты. Весь этот зал был для Николая Дмитриевича невыразимо дорогим, священным местом.
Николай Дмитриевич едва ли не со слезами восторга на глазах смотрел по сторонам, вдыхал несколько сгустившийся, но все же милый сердцу воздух судебного зала и не обращал внимания на ворчливо-саркастические реплики своих соседей. Ведь разве им дано было чувствовать то, что чувствовал он?
Открытие заседания, намеченное на полдень, задерживалось. Позади Николая Дмитриевича довольно громко переговаривались двое:
— Никакого порядка!
— Совершенная истина-с! Власть — комедия, суд — комедия…
— Нет уж, Василий Николаевич! Не комедия это, отнюдь! Не комедия, Василий Николаевич, — трагедия! Во всероссийском масштабе…
— Ради бога, тише! Услышат…
На сцене появился Федулов, громко объявил:
— Встать! Суд идет!
Николай Дмитриевич поднялся. И внезапно оказался как будто в пустоте. Он удивленно повернул голову. Занимавшая места для публики интеллигенция не пожелала встречать стоя большевистский суд. Рабочие и солдаты смотрели на «господ» с угрюмой ненавистью. Николай Дмитриевич едва не крикнул: «Что же вы сидите, милостивые государи? Вы ведь в суде!» Но он смолчал, понимая, что это будет глас вопиющего в пустыне. Его уже дергал за рукав Гуревич-старший…
Читать дальше