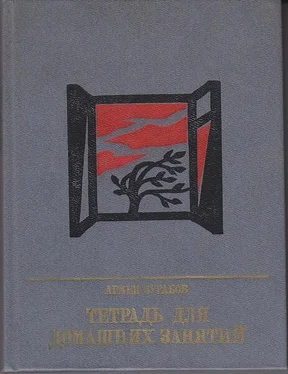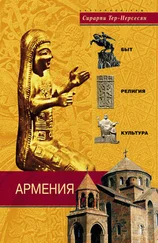Григорьев еще был в комнате. Он обернулся к Григорьеву и, срывая от внезапного волнения голос, сказал:
— Веди… Веди в клозет, Григорьев!
Григорьев, споткнувшись, пошел к двери.
Потом, гремя кандалами, он шел с Григорьевым по коридору, а когда вошел в клозет, Григорьев побежал на крик Жданова в одну из палат, а он сорвал с перепиленных кандалов проволоки, на которых они держались, снял кандалы, скинул больничный халат и шлепанцы, отогнул перепиленные прутья решетки, привязал веревку, выкинул другим концом за окно, кандалы связал проволокой, положил на подоконник, схватился руками за крайние, не перепиленные прутья решетки, подтянулся, взобрался на подоконник, сел, высунул в окно ноги, схватил ногами веревку, повесил на шею кандалы, вылез, удерживаясь руками за решетку, схватил веревку одной рукой, потом — второй и так, перебирая руками, стал спускаться, пытаясь зажать веревку и ногами, но веревка была тонкой, и ноги теряли ее, и от этого вся тяжесть приходилась на руки, и руки сразу стали болеть, казалось, веревка насквозь перерезает ладони, а он смотрел вниз, на жесткую, высохшую траву у подножья стены и видел, как она приближалась… Вдруг трава колко прижалась к лицу, и он не сразу понял, что упал, потому что никакая боль в руках не заставила бы его отпустить веревку — руки его продолжали сжимать веревку, и она лежала рядом с ним на траве. Он встал на ноги, посмотрел вверх, увидел над собой болтающийся обрывок веревки и только тогда понял, что веревка оборвалась, и, уже думая только об этом, что ему прислали гнилую веревку, устало пошел к реке.
Он спотыкался, падал, но вода освежала его, и он находил силы подняться.
На середине реки остановился, снял с шеи кандалы и бросил их в воду. Брод здесь был по пояс, и он увидел вдруг несущееся на него со всех сторон пространство. Он закрыл глаза, постоял так, с закрытыми глазами, несколько мгновений и открыл их. Навстречу ему по пояс в воде шел Котэ.
— Все могло сорваться! — крикнул он Котэ. — Я мог сломать ноги… Какой ишак дал тебе эту веревку!
И все время, пока шел к берегу, разгребая руками воду и задыхаясь от усталости, говорил о гнилой веревке.
Котэ подхватил его под мышки и помог выйти на берег. Он без сил повалился на песок. Котэ набросил на него плащ, надел фуражку и стал поднимать. Он сам схватил Котэ за шею, и Котэ почти тащил его по крутому откосу.
По набережной они шли под руку, тесно прижавшись друг к другу, как пьяные, и так перешли Верийский мост, а на Великокняжеской стояли извозчики. Потом долго ехали на извозчике по разным улицам и переулкам, пересели в трамвай, снова, не торопясь, под руки шли по Пушкинской и через Эриванскую площадь, а на Веньяминовской вошли в управление тифлисского полицмейстера и спустились в подвал — там уже были приготовлены свечи и еда.
В подвале полицмейстера он просидел несколько дней. Котэ приносил газеты, в которых сообщалось о его розыске, а однажды он прочел об аресте Брагина в Кутаиси, и с того дня Котэ больше не приходил, и он понял, что Брагин дал показания. Потом ему сообщили, что вместе с Котэ арестованы Джаваир и еще несколько человек.
Комитет предлагал перебросить его в Константинополь, но он поехал в Баку — чтоб узнать у Сегаля о Житомирском. (Сегаль знал Житомирского еще до того, как тот уехал в Берлин учиться.) Комитет запретил ему ехать в поезде, и он добирался до Баку сначала пешком, потом на лошадях и через несколько дней, рано утром, пришел на квартиру Сегаля, разбудил его, и тот со сна принял его за Аршака Зурабова, а он сказал:
— Житомирский — предатель. Поеду в Париж, найду его и убью.
Что было потом?..
После побега все сливалось в неразделимый сплошной стремительный поток, и теперь, вдруг останавливая его на отдельных днях и событиях, он почти не различал подробностей — казалось, память не могла уже удержать то, что было слабее пережитого, и остаться в ней могли только целые события.
В Париж он приехал поздней осенью. До этого еще месяц прожил в Тифлисе в разных домах, на Авлабаре и в Нахаловке, потом ему достали велосипед, и на велосипеде проселочными дорогами он добрался до Мцхет. В Мцхетах, до прихода из Тифлиса батумского поезда, просидел в овраге, недалеко от станции, и сел в поезд, когда он уже отходил. В Батуми его повели к глазнику, доктору Шатилову. Шатилов смазал ему правый глаз какой-то мазью, и несколько дней после этого бельма не было видно.
Потом был тихий солнечный день, и он, в парике, с черными закрученными усами, с документами турецкого купца Шевки-бея, проходил в батумском порту таможенный досмотр; заметив в руках полицейского свою фотографию, по-турецки, помогая жестами, спросил, не проник ли преступник, которого ищут, на корабль (он хотел знать, будут ли искать его на корабле), и полицейский вежливо улыбнулся и жестом показал, что он может быть спокоен, и он тогда облегченно вздохнул, по-турецки поблагодарил полицейского и неторопливо поднялся по трапу, всем видом показывая, как он теперь спокоен и как доволен жизнью.
Читать дальше