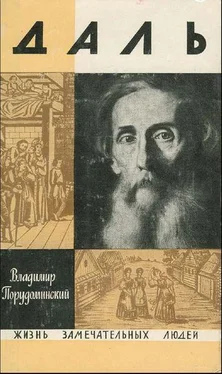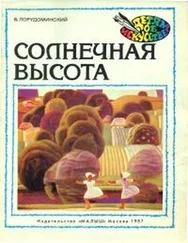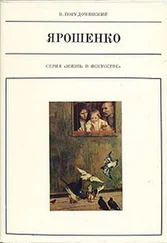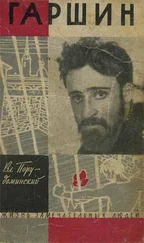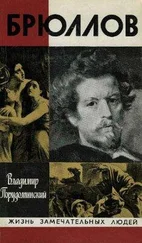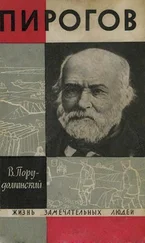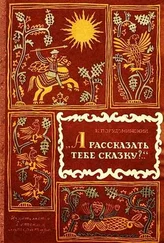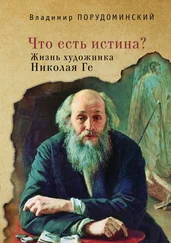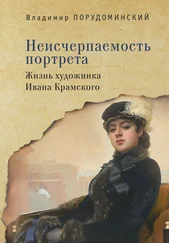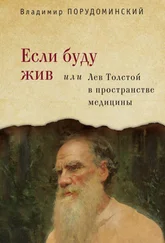Даль пускает в дело огромные, нетронутые запасы местных речений: объясняя привычные слова, открывает новые, удивительные значения, которые они приобрели в разных местах ( молодка — не только «молодая баба, замужняя нестарая женщина», но по-вологодски и по-рязански — курица, по-тверски и по-псковски — молодая или новоезжая лошадь), и наоборот — местные слова приспосабливает для объяснений и дополнений, просто приводит для сведения (молодятник — сиб. молодежь; ряз. молодой, начинающий расти лес, молодыга — кстр. щеголиха; молодушник — пск., твр. сельский волокита).
8
Особые отношения у Даля с иностранными словами. Даль старается перевести их на русский язык или объяснить подходящими народными словами: «К чему вставлять в каждую строчку: моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал и сотни других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски? Разве: нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнет, плетеница, подножье или стояло, хуже?» Подыскание тождесловов приобретает особый смысл — «высказать ясно, отчетисто и звучно все то, что другие могут вымолвить на своем языке; но высказать так, как оно должно отозваться в русском уме и сердце, сорваться с русского языка». Мысль Даля о неотделимости языка от быта и жизни, от душевного склада народа тут очень отчетлива. Даль хочет — более того, Даль убежден, — что почти всегда найдется русское слово, равносильное по смыслу и по точности иностранному. Здесь слова местные, «тутошние», Далю особенно с руки — вот ведь нашли где-нибудь в Твери или на Урале исконно русское обозначение понятия, которое привычно выражается словом иноземным (архангельское овидь или орловское оглядь вместо горизонта). Иногда он употребляет «тутошнее» слово «в таком значении, в каком оно, может быть, доселе не принималось»: «соглас» («согласие») вместо «гармония», и презанятное пояснение — «музыкальное созвучие, дающее в русской музыке глас, а в западной тон» !..
Даль в увлечении переступал границу, говорил о праве «составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими», предлагал вместо климат — погодье, вместо адрес — насыл, вместо атмосфера — колоземица или мироколица, вместо гимнастика — ловкосилие (а гимнаст — ловкосил) , вместо автомат — самодвига, живуля, живыш. Даля обвиняли, что сам сочиняет слова; он сердился, но про тождесловы к иноземным речениям спорил осторожно: «В переводах чужих слов могут попадаться в словаре изредка вновь сочиненные слова, но в красной строке или в числе объясняемых слов сочиненных мною слов нет».
Но дело вовсе не в том, сочинил Даль «живыша» или «насыл» или подобрал где-нибудь в Ардатове или на Сухоне, как подобрал некогда за Уралом «забедры» и «назерку», — дело не в том! Среди тождесловов, подобранных Далем к иноземным речениям, есть немало таких, которые и сегодня нужны нам, — Далев словарь сохранил для нас множество замечательно метких и красочных народных слов. Но вот предложенные Далем «самодвиги» и «колоземицы» не привились, не прижились — видно, не нужны были. «Словесная речь человека — это видимая, осязательная связь, звено между… духом и плотью», — писал Даль. «Самодвиги» и «ловкосилы», видно, чужды были духу народному и оттого вслух не выговорились — народ во всем, и в языке тоже, не любит нарочитого, навязанного…
9
Определения и тождесловы — основа толкования, они открывают гнездо; «примеры еще более поясняют дело». При том: «Не всегда я ставил примеры самого простого и всем известного значения слова; напротив, что всякому ведомо, то нечего жевать, а надо указать на забытое или затертое невниманием значение слов».
Примеры у Даля — прежде всего пословицы и поговорки. Подчас его упрекают, что они-де в словарь слишком щедро насыпаны; Даль словно предвидел упреки: «Для простого словаря или словотолковника их местами нанизано слишком много; ради примера было бы достаточно двух или трех, а десятки можно бы выкинуть. Но я смотрел на это дело иначе: при бедности примеров хорошей русской речи решено было включить в словарь народного языка все пословицы и поговорки, сколько их можно было добыть и собрать; кому они не любы, тот легко может перескочить через них… а иной, может быть, вникнув в этот дюжий склад речи, увидит, что тут есть чему поучиться». Не позабудем к тому же: когда Даль взялся за составление словаря, рукопись сборника пословиц его была под запретом. «Толковый словарь» стал как бы еще одним изданием сборника «Пословицы русского народа».
Читать дальше