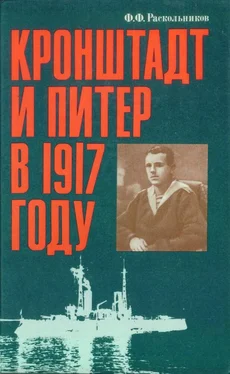* * *
Во время ежедневных, теперь узаконенных, свиданий разгорались жгучие споры — чаще всего на тему о перспективах революции. Пессимистов не было. Мы все, без исключения, верили в победу пролетарского дела. Разногласия сосредоточивались лишь на вопросе о темпе развития революции.
Были среди нас нетерпеливые «буревестники», считавшие, что в июльские дни партия допустила ошибку, отказавшись от попытки восстания. В процессе дискуссии мы, всецело одобрявшие линию Центрального Комитета, указывали, что в те дни всеобщей растерянности и смятения в стане наших врагов захватить власть было действительно легко, но удержать ее — очень трудно. Всякая попытка этого рода являлась бы авантюрой, заранее обреченной на неудачу. Созданная нами власть была бы низложена сравнительно отсталыми фронтовиками, среди которых еще кое-где, особенно в казачьих частях, держалась кулачная дисциплина. Питерскому рабочему классу и его гарнизону было бы устроено чудовищное кровопускание, способное надолго ослабить пролетарскую революцию. При избытке либерального прекраснодушия у Временного правительства не было недостатка в кровожадных кавеньяках и в скулодробительных добровольцах, обычно сопутствующих режиму адвокатского красноречия, демократического мошенничества и истерической фразы.
— Необходимо сперва привлечь на свою сторону большинство трудящихся, — говорили мы, — и только уже после этого свергать Временное правительство.
Но наши оппоненты возражали, что завоевывать симпатии большинства незачем и совершенно достаточно, если энергичное меньшинство революционного авангарда захватит власть в свои руки и на собственный страх и риск совершит переворот в интересах рабочего класса. В этой политической концепции я без труда уловил знакомые нотки теории семидесятника П. Н. Ткачева с его «Набатом». Особенным упорством защиты этой идеологии отличался тов. Сахаров, за что и получил от меня кличку Бланкист.
Сравнительно молодой, по лысый, с усеянным морщинами лицом и с живыми блестящими глазами, прапорщик военного времени Сахаров служил в 1 запасном батальоне и пользовался огромной популярностью среди солдат своей части. Это он в июльские дни вывел на улицу свой многочисленный батальон и привел его с Охты к Таврическому дворцу. С начала реакции он был «изъят», посажен в «Кресты» и привлечен по нашему делу, войдя в список обвиняемых, почетно возглавлявшихся тов. Лениным.
Сахаров был прекрасный товарищ и славный человек, но в вопросах теории он, видимо, прихрамывал.
* * *
На прогулку вместе с памп выпускались и уголовные. Кого только тут не было, начиная от немецких шпионов и кончая малолетними преступниками, по Робинзону Крузо мечтавшими о побеге [129].
Однажды, когда я сидел на скамейке в тюремном дворике, ко мне подошел молодой человек, по внешнему виду рабочий, и стал жаловаться на невыносимые нравственные муки, причиняемые ему тюремным заключением.
Предполагая в нем нестойкого и малодушного товарища, я отнесся к нему с сочувствием и уже собрался поддержать его настроение, но предварительно задал вполне естественный вопрос:
— По какому делу вы арестованы?
— Моя фамилия опубликована в списке провокаторов, — ответил словоохотливый собеседник.
Я поторопился отойти в сторону от тоскующего без работы охранника.
После прогулки мы снова расходились по камерам, которые весь день оставались открытыми. Только поздно вечером мы нажимали кнопку звонка и просили запереть дверь до следующего утра.
— Выходить уже больше не будете? — почтительно спрашивал надзиратель и с гулким эхом поворачивал ключ в заржавленном замке тяжелой двери, словно бронею, обшитой железом.
* * *
С установлением режима «открытых дверей» наши камеры превратились в якобинские клубы. Шумной толпой перекочевывая от одного к другому, мы спорили, играли в шахматы, сообща читали газеты. Одним словом, предавались тому, что немцы называют «Theorie und Three» [130].
Исключение составлял тов. Троцкий. В тюрьме он вел замкнутый образ жизни, покидая камеру только ради прогулки, от которой никогда не отказывался [131].
Матерые царские следователи, горевшие желанием отличиться и выслужиться при новом режиме, из кожи лезли вон, чтобы при помощи хорошо знакомых им профессиональных приемов сфабриковать против нас подложный материал и в самом широком масштабе создать новое «дело Бейлиса». Разница была лишь та, что нас обвиняли не в употреблении христианской крови, а в употреблении немецкого золота… Это следует отнести не столько к разнице политических режимов, сколько к различию объектов обвинения: в деле Бейлиса на скамье подсудимых сидел еврейский народ, а в нашем процессе на заклание обрекалась большевистская партия. В одном случае справляла свой праздник оргия антисемитизма, в другом — антибольшевизма. Тем не менее существо дела было одинаково. И тут и там, с одобрения высшего начальства, откровенно применялись методы фальсифицированной, погромной юстиции. В обоих случаях господствующий класс (при царизме — поместное дворянство, при Временном правительстве — буржуазия) во имя своих классовых политических интересов слишком грубо пытался обратить весы «правосудия» в плаху. Обе инсценировки громких процессов против евреев и против большевиков провалились со скандальным позором. Вместе с эрой российского парламентаризма кончились навсегда опыты сенсационных процессов а lа Дрейфус…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу