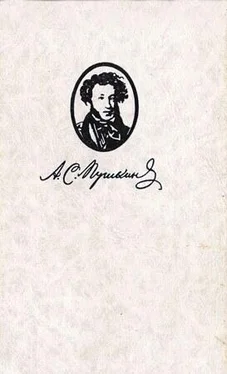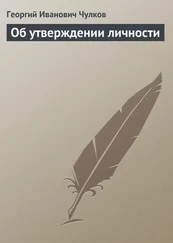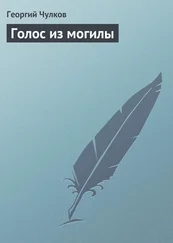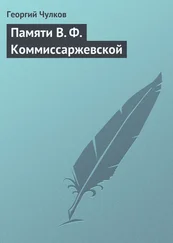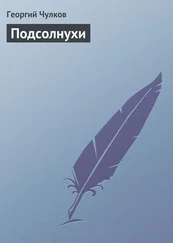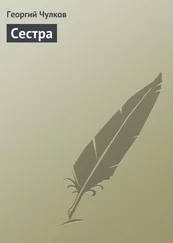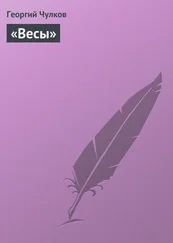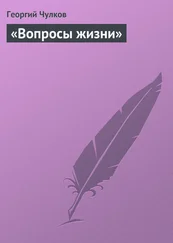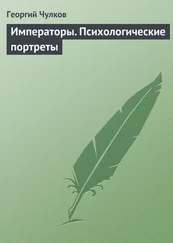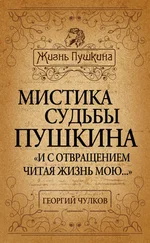Но Пушкин все-таки волочился за бессарабскими дамами и девицами. Впрочем, ни одна из них не увлекла сердца поэта по-настоящему — ни Мариола Замфираки [478] Замфираки (Ралли) Мариола (ок. 1801 — ок. 1830) — дочь Захара (Замфираки) Ралли — бессарабского помещика, члена Областного верховного суда.
, ни Аника Сандулаки [479] Сандулаки Аника — кишиневская приятельница Пушкина. Отличалась необыкновенной смуглостью, что особенно восхищало поэта.
, ни многие другие, с которыми были у поэта небезразличные отношения. По крайней мере в «донжуанский список» кроме Пульхерии из кишиневских своих возлюбленных Пушкин включил только одно имя. Это имя загадочной гречанки Калипсо Полихрони [480] Полихрони Калипсо (1804–1827) — гречанка, бежавшая с матерью из Константинополя в Одессу. Кишиневская знакомая Пушкина. Ей посвящено стихотворение «Гречанке» (1822).
. О ней писал Пушкин Вяземскому, обещая познакомить его «с гречанкою, которая целовалась с Байроном». Рассказывали, будто бы эта странная Калипсо встретилась с певцом «Чайльд-Гарольда» в Константинополе и очаровала его. Она была маленькая, некрасивая, с огромным носом, но из-под черных ее кудрей сверкали чудесные глаза, полные огня и страсти. Вероятно, ей Пушкин посвятил стихи «Гречанке» («Ты рождена воспламенять воображение поэтов…»). По признанию Пушкина, она его пленила —
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной…
Она пела греческие и турецкие романсы немного в нос, таинственно, как будто колдуя. Пушкин думал, что она «рождена для неги томной, для упоения страстей». Но он ошибся. Ее судьба была иная. Она покинула Россию и, переодевшись послушником, долго жила в древнем монастыре у подножия Карпат. Она строго несла аскетические подвиги, и только после ее смерти монахи узнали, что она женщина.
Пушкин тяготился «проклятым» городом Кишиневом, а между тем он пользовался там относительной свободой. Иван Никитич Инзов был к Пушкину чрезвычайно расположен. Он не только представил ему возможность в первые два месяца уехать на Кавказ и в Крым, но и позднее разрешил пользоваться долгосрочными отпусками. Вернувшись из Гурзуфа, Пушкин прожил в Кишиневе только месяца два. Между 11 и 24 ноября он опять уехал, на этот раз в Киевскую губернию, в Каменку, имение матери генерала Раевского [481] …матери генерала Раевского… — Давыдова Екатерина Николаевна (1750–1825). В первом браке за Николаем Семеновичем Раевским (? — 1771 во втором за Львом Денисовичем Давыдовым (1743–1801).
и его единоутробных братьев — Александра Львовича [482] Давыдов Александр Львович (1773–1833) — генерал-майор, единоутробный брат Раевского-старшего. Неприязнь поэта к нему вылилась в строках «Евгения Онегина»: «И рогоносец величавый, / Всегда довольный сам собой, / Своим обедом и женой» и др. произведениях.
и Василия Львовича Давыдовых [483] Давыдов Василий Львович (1792–1855) — член Южного общества декабристов, осужден по 1-му разряду, умер на поселении в Красноярске.
. В Каменку съехалось к 24 ноября немало гостей: Раевские — отец и сын Александр; М. Ф. Орлов, готовившийся вступить в брак с Екатериной Николаевной Раевской; К. А. Охотников [484] Охотников Константин Алексеевич (ок. 1797–1824) — капитан, член «Союза благоденствия». В мемуарах Ф. Ф. Вигеля он представлен как «изувер-демагог», искушавший Пушкина.
, адъютант Орлова, ревностный член «Союза благоденствия», и туда же попал деятельный заговорщик И. Д. Якушкин, приезжавший в Кишинев из Тульчина, чтобы уговорить М. Ф. Орлова участвовать на московском совещании вождей «Союза благоденствия».
Каменка расположена на берегу реки Тясмина. Здесь жизнь была привольная, богатая и широкая. Мать-старушка была гостеприимна, благодушна и не очень вникала в то, что происходило у нее в доме: она не замечала ни конспиративных разговоров, ни вольного поведения своей невестки, Аглаи Антоновны [485] Давыдова Аглая Антоновна (1787–1842, урожд. герцогиня де Гёрамон) — жена А. Л. Давыдова с 1804 г. Стих. Пушкина «Кокетке'' обращено к ней, так же как и эпиграмма «Иной имел мою Аглаю» (оба 1821 г.).
, жены Александра Львовича Давыдова, любезного хозяина, гурмана и сибарита. Пушкин, кажется, не без основания называл его «величавым рогоносцем». Его жена, француженка, урожденная де Грамон, была «магнитом», который притягивал к себе многочисленных поклонников. Василий Львович Давыдов был председателем «Каменской управы Тульчинской думы» и в 1826 году поплатился за свое участие в Южном обществе каторгою в Нерчинском руднике. Но тогда еще не думали о мрачной расплате. Пушкин делил свой досуг между прелестною Аглаей и обществом вольнодумцев. 4 декабря он писал из Каменки Н. И. Гнедичу: «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу