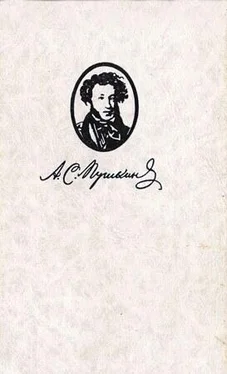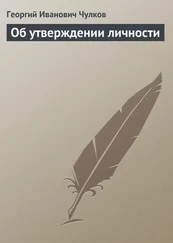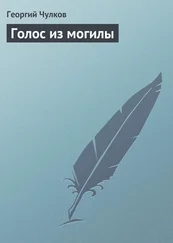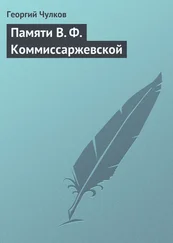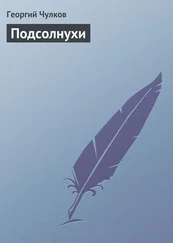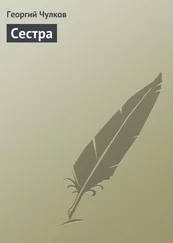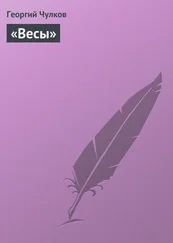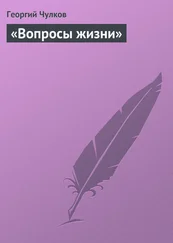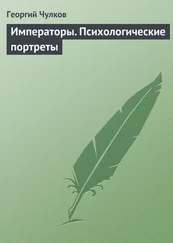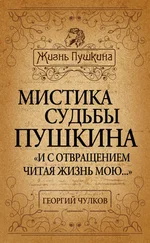Здесь, у Чаадаева, познакомился Пушкин с шестнадцатилетним мальчиком Николаем Николаевичем Раевским [285] Раевский Николай Николаевич (1801–1843) — младший сын генерала Н. Н. Раевского, командир Нижегородского драгунского полка; 1826–1829), генерал-лейтенант.
и подружился с ним. Умный и даровитый Раевский, младший сын известного героя 1812 года [286] …известного героя 1812 года… — Раевского Николая Николаевича (1771–1829) генерала от кавалерии, участника войны 1812 г., члена Государственного совета. После смерти Раевского Пушкин отозвался на составленную А. Ф. Орловым его биографию заметкой в «Литературной газете» (1830).
, не был кутилою. Его дружба с поэтом была прочной и значительной. Пушкин ценил ее.
Весною 1817 года по каким-то соображениям решено было досрочно назначить выпускные экзамены и выдать двадцати девяти лицеистам их дипломы. Пушкин как раз в эти последние месяцы учился очень небрежно и даже по русскому языку получил худую отметку. Ему было не до того. Он делил свое время между умным Чаадаевым и беспутными его товарищами по гусарским казармам в Софии. Было, впрочем, у него и одно важное дело. Он обдумывал и уже начал писать большую сказку-поэму «Руслан и Людмила». Экзаменов лицеисты не боялись. Педагоги, заинтересованные в том, чтобы их питомцы не ударили в грязь лицом, заранее открыли все секреты экзаменов и даже распределили между лицеистами темы, на которые они должны были отвечать. Пушкин тоже не боялся экзаменов, но у него была другая забота. Еще в марте он начал сочинять стихи, которым, вероятно, придавал немалое значение. Очень может быть, что сам Энгельгардт предложил ему тему. Это была опасная тема. Юный поэт решил написать нечто о безверии. Мы теперь знаем, что добродетельный Егор Антонович в своей немецкой записке со свойственной ему прямолинейностью отметил, что у Пушкина «французский ум», что «его сердце холодно и пусто», что в нем «нет ни любви, ни религии». И вот теперь этот высоконравственный педагог как будто захотел испытать поэта еще раз и выслушать от него его последнее признание… Возможно, однако, что Пушкин и сам выбрал эту рискованную тему; возможно, что ему захотелось на прощанье дать какое-то объяснение этому своему моральному обличителю и строгому судье. Первые строки стихотворения как будто непосредственно обращены к Энгельгардту:
О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет;
Смирите гордости жестокой исступленье… [287] «О вы, которые с язвительным упреком…» — из стих. «Безверие» (1817).
Если бы поэт отнесся к своей задаче официально, как он это сделал, когда ему пришлось писать стихи по поводу бракосочетания принца Оранского, до которого ему не было никакого дела, он бы совсем иначе написал свое «Безверие». Нет, на этот раз Пушкин со всею искренностью ведет полемику со своими обличителями:
Смирите гордости жестокой исступленье…
Его строгие судьи оказываются теперь в роли подсудимых. Поэт сам их обличает. Он вовсе не приносит покаяние. Напротив, он с полной откровенностью рассказывает о душевном состоянии того, чей «ум ищет божества, а сердце не находит».
Этот не совсем обычный афоризм через четыре года Пушкин записал в своем кишиневском дневнике: «Сердцем я материалист, но мой разум с этим не мирится». Пушкин записал эти слова Пестеля — «умного человека во всем смысле этого слова».
Восемнадцатилетний Пушкин в «Безверии» нисколько не отказывается от своего безбожия. Он только утверждает, что оно еще не обеспечивает человеку оптимистического взгляда на мир. Это мысль в духе Чаадаева. Безверие — безотрадно. Что это сказано не в угоду начальству, видно из того, что в известном письме 1824 года перехваченном жандармами, Пушкин повторяет ту же мысль об атеизме, «системе не столь утешительной, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобной». То, что можно было сказать безнаказанно на экзамене в 1817 году, через семь лет оказалось преступным в глазах николаевского правительства.
Неизвестно, понял ли Е. А. Энгельгардт горький сарказм Пушкина. Кстати сказать, этот строгий моралист, обвинявший Пушкина в том, что у него в сердце нет религии, сам был, по свидетельству одного из его учеников, человеком неверующим. Это очень похоже на истину, ибо хотя Егор Антонович и построил в Царском Селе кирху на деньги, отчасти собранные из масонских лож и отчасти полученные им на это дело из русской казны, но вся его кисло-сладкая религия сводилась к очень жалкому рационализму. И в «безбожии» юного Пушкина было в тысячу раз больше положительного отношения к бытию, чем в этой худосочной «религии сердца» благочестивого лифляндского дворянина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу