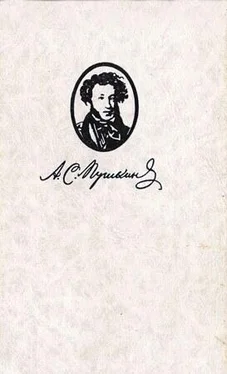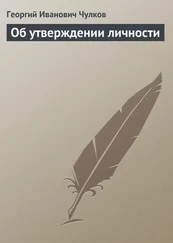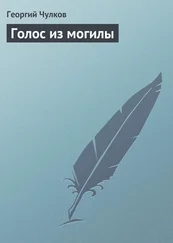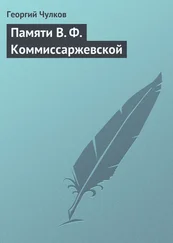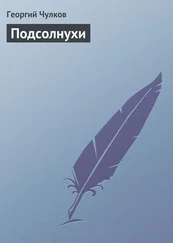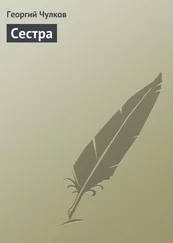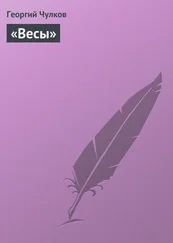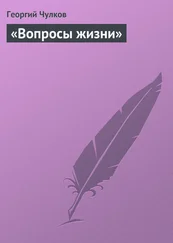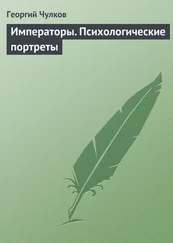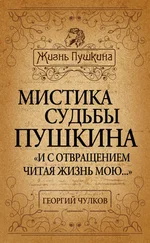Последняя осень в Болдине была бесплодна. Пушкин приехал туда озлобленный и подавленный. Он ничего не мог написать. Закончил только «Сказку о золотом петушке».
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
Эти финальные строки цензор вычеркнул. Какой же намек, однако, имеется в этой сказке? Он так завуалирован фабулой, заимствованной у Ирвинга [1121] …завуалирован фабулой, заимствованный у Ирвинга… — В основу сюжета сказки положена шутливая новелла американского писателя Ирвинга Вашингтона (1783–1859) «Легенда об арабском звездочете».
, что едва ли можно найти в ней какую-нибудь определенную политическую тенденцию. По все же царь Дадон, отказавшийся исполнить обещания, данные им мудрецу, и соблазнившийся красавицей, которой хотел владеть этот самый мудрец, напоминает (правда, отдаленно) житейскую тему, в коей тогда был заинтересован Пушкин. Поэт долго верил, что 8 сентября 1826 года царь заключил с ним какой-то договор; он мечтал внушать монарху добрые идеи и воображал наивно, что не «раб и льстец», а он, Пушкин, будет приближен к престолу. В 1831 году он, не утратив еще этих иллюзий, подсказывал царю, что он желает взять на себя роль Карамзина, историографа монархии. Но царь мог только улыбнуться на такую затею. Пушкин теперь был убежден, что царь не сдержал своего слова. Но мало этого. Он отнимает у поэта его «шамаханскую царевну», его красавицу. Пушкин несколько раз называл себя «стариком». А что, если он имел в виду себя и свою судьбу, когда писал:
Старичок хотел заспорить,
Но с царями плохо вздорить [1122] «…Но с иными плохо вздорить…» — Чулков процитировал эту строчку неточно: «Но с царями плохо вздорить».
;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. — Вся столица
Содрогнулась; а девица —
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха…
Тут в самом деле есть что-то пророческое. Только грозный петушок пробил темя царю Николаю не тотчас же после убийства Пушкина, а спустя двадцать лет, когда вся Россия дрогнула в год севастопольской катастрофы [1123] …год севастопольской катастрофы. — Речь идет о героической оборот Севастополя в 1854–1855 гг. во время Крымской войны.
.
Если в 1834 году Пушкин ничего не написал [1124] …ничего не написал… — Чулков неточен. Пушкиным в 1834 г. написаны 16 «Песен западных славян», стихотворение «Пора, мой друг, пора!..».
, кроме последней сказки и лирического отрывка «Он между нами жил», зато он успел напечатать в этом году немало: «Сказку о мертвой царевне», «Пиковую даму», стихотворные переводы из Мицкевича «Будрыс и его сыновья» и «Воевода», поэму «Анджело», «Повести, изданные Александром Пушкиным», стихотворение «Красавица», отрывок из «Медного всадника», «Кирджали» и, наконец, «Историю Пугачевского бунта» в двух частях.
«История Пугачевского бунта» не имела успеха. «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают, — записывает Пушкин на последних страницах своего дневника. — Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении…» И далее: «Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен…» В октябре или ноябре 1835 года Пушкин написал оду «На выздоровление Лукулла» [1125] «На выздоровление Лукулла». — Стих. с подзаголовком «Подражание латинскому» является сатирой на С. С. Уварова, который был наследником богача графа Шереметева как муж его двоюродной сестры. Когда Шереметев заболел, Уваров поспешил принять меры к охране имущества, надеясь вскоре им завладеть. Однако Шереметев выздоровел. Лукулл (ок. 117 — ок. 56 до н. э.) римский полководец, славившийся богатством, роскошью и пирами.
. В ней все узнали убийственный портрет Уварова. После этого случая С. С. Уваров, бывший тогда министром народного просвещения, сделался злейшим врагом Пушкина и принимал участие в травле поэта.
А врагов у поэта было очень много. Правда, у него были и друзья. Но эти друзья только смутно догадывались о страшной судьбе поэта. А иные и вовсе не догадывались. В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев были так связаны своими сословными и классовыми путами, что им очень трудно было понять Пушкина, коего гений разломал рамки, навязанные ему его происхождением и воспитанием. Правда, у Пушкина тех годов сложились убеждения, подсказанные ему его «шестисотлетним дворянством» и неудачею «тайных обществ», тщетно пытавшихся захватить власть 14 декабря 1825 года; его политические взгляды того времени были прежде всего взглядами дворянина, утратившего свои богатства и свои привилегии и мечтавшего о конституционной монархии в духе Монтескье с двумя палатами, из коих одна должна была быть представлена наследственными дворянами, «пэрами»; эти убеждения шли вразрез с официальной программой ничем не ограниченной монархии и бюрократической системы по прусскому образцу. Но не эти политические взгляды, обусловленные сословными и классовыми интересами Пушкина, были главной причиною той отчаянной борьбы, которую вела против него придворная знать: у многих друзей Пушкина были такие же политические убеждения, как у него, или очень близкие к его взглядам, например у того же Вяземского или Тургенева, однако именно Пушкин, а не другой кто-нибудь стал предметом ненависти всех этих царедворцев-бюрократов, «жадною толпою» стоявших у трона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу