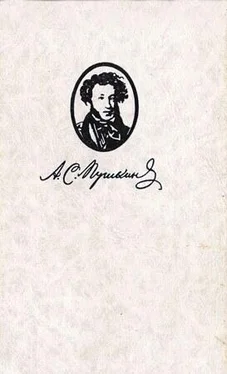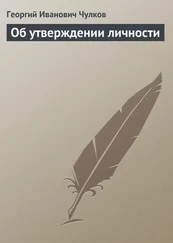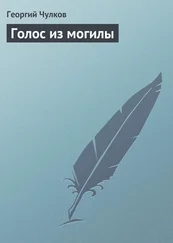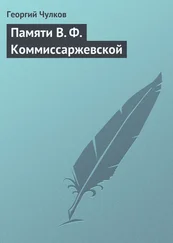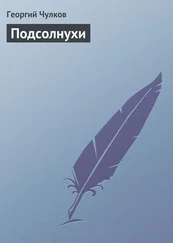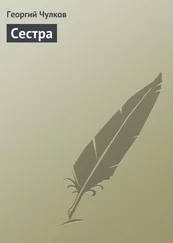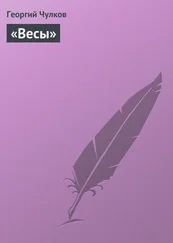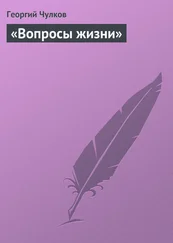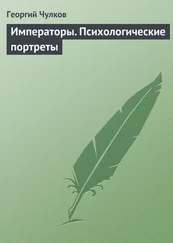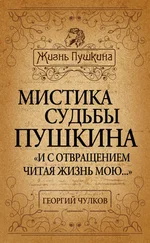Возможно, что в это время у Пушкина на сердце кошки скребут, но он делает вид, что это вовсе не трагедия, а между тем незадолго до того Пушкин писал Дельвигу об «Эде» [698] «Эда» — поэма Евгения Абрамовича Баратынского (1800–1844).
Баратынского: «Что за прелесть эта Эда!» А через несколько дней опять Вяземскому: «Видел ли ты мою Эду?» «Не правда ли, что она очень мила?»
Однако надо освободиться во что бы то ни стало от всех этих безответственных связей. Надо покончить с Олей, с сентиментальной Анной Николаевной Вульф, с соблазнительной Анной Петровной Керн, с очаровательной Зизи; надо вырвать из сердца прежние увлечения в Крыму, на Кавказе, в Одессе: надо всем пожертвовать для новой жизни.
А как ее начать — эту новую жизнь? Прежде всего надо восстановить свои гражданские права. Пушкин не хочет притворяться. Раскаяния у него нет никакого. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, — пишет он Жуковскому, — я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». В этом кратком заявлении немало странностей: прежде всего необычен тон его. Это не просьба, а договор. Поэт смотрит на правительство как на равную ему силу. Он предлагает свои условия. Любопытно — он оставляет за собой право на идейную независимость. Он только обещает «хранить свой образ мыслей про себя». Вот это последнее обещание вызывает серьезное сомнение. Хранить про себя свой образ мыслей — что это значит? Офицер, чиновник, булочник — все могут хранить про себя свой образ мыслей, но как с такой задачей справится поэт? Отказаться поэту от своего образа мыслей — это значит умереть или замолчать навек.
Однако приблизительно в этом смысле Пушкиным было написано царю письмо [699] …написано царю письмо… — Прошение на имя Николая I об освобождении с приложением подписки о непринадлежности к тайным обществам было послано царю между 11 и 27 мая 1826 г.
и отправлено во второй половине мая. Ответа он не получал и очень тревожился. «Жду ответа, но плохо надеюсь, — писал он Вяземскому 10 июля. — Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков…»
Это было написано за три дня до казни мятежников. 24 июля весть об этом событии дошла до Пушкина. Повешенные были ему лично знакомы. Ему мерещились их лица. Он вспомнил, как ранней весною, в Кишиневе, ему довелось провести утро в разговоре с Пестелем. «Да, это был умный человек во всем смысле этого слова…» Ему мерещились огромные пламенные глаза Рылеева. Пушкин шутя называл его «планщиком», подсмеиваясь над его рассудочными и не слишком глубокими «Думами», но теперь ему хотелось земно поклониться этому человеку. Он припомнил Каховского и его по-детски оттопыренные губы. Каховский был помешан на романтизме. Неужели это он убил Милорадовича?.. Пушкину мерещилась виселица и пять повешенных. Да разве он сам не рисковал быть среди них?
Да, Пушкин уцелел. И даже послал царю письмо с просьбой вернуть ему свободу. Вяземский упрекал поэта за холодный и сухой тон его письма, на что Пушкин отвечал уже после казни пяти: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы…»
Но виселица на кронверке Петропавловской крепости еще не все: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна…» Там, «в мрачных пропастях земли» [700] …«в мрачных пропастях земли»… — из стих. «19 октября» (1827).
, гремя кандалами, томится милый его сердцу Пущин.
В глазах Пушкина гибель декабристов — это трагедия героев, идущих против необходимости. И он сам мог примкнуть к этой безумной — с его точки зрения — попытке разрушить основы великодержавной монархии. Он мог присоединиться к мятежникам не потому, что верил в успех революции, а вопреки своему сознанию исторической действительности, по мотивам личного достоинства и свободолюбия. Сам он жаждал независимости и свободы, но он не верил в реальную возможность революции. Он даже не видел того, что видел император, который в своей записке о 14 декабря откровенно писал: «Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решаться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни…»
То, что на языке царя Николая называлось «чернью», на самом деле было многомиллионною армией крепостных, которые уже давно тяготились своим положением и готовы были поддержать восстание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу