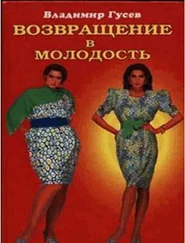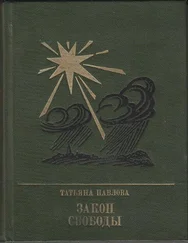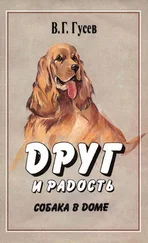Помню, я глубоко задумался как-то в одиночестве в эти дни и принял в душе решение: как бы меня ни пытала судьба — не отступать от своих годами, десятилетиями лелеемых принципов гуманизма и разума. Я чувствовал: настало время проверки. Я сын восемнадцатого столетия; я сын Просвещения, и мне ли, революционеру и старику, конспиратору, тысячу раз рисковавшему жизнью и даже честью своей ради родины, — мне ли меняться на старости лет, лезть в Бонапарты, позорить свои седины? Ради чего я жил, с тем и уйду в могилу, не отступлю от себя. Свобода ценой бесчестия, крови — обман, не свобода; все это — гуманизм, свобода и разум, — все это неделимо, не живо одно без другого. Я чувствовал, что погибну, и шел на это.
Мятежи против республики следовали один за другим, и, как я и ожидал, в них все чаще, все больше участвовали не только испанцы, но и американский народ — метисы, индейцы, мулаты, самбо и даже сами креолы, богатые мантуанцы. Правда, этих последних среди мятежников было немного, и это понятно: от свободы житейски, корыстно выигрывали больше всего они… Но выгода баронов индиго и королей какао — плохое утешение для свободы и не законное ее детище… Я давно уже чувствовал, что не разгадал своего народа и поплачусь за это — и готовился к своей горькой участи. И я, повторяю, не суетился, не дразнил судьбу, не играл собой — я остался тем, чем был: гражданином братства, разума, справедливости. Я не обагрил рук кровью своего народа, я только защищался, не нападал. Я миром тушил мятежи, я отпускал пленных… но мятежи вспыхивали с новой, невиданной силой, а отпущенные пленные вступали в отряды льянерос и сшивали спинами моих верных солдат, некогда отпустивших их.
Меня добили льянерос.
Да, верно: добили меня не испанцы, а наши степные люди, народ, наши люди; они, конечно, бандиты, и загубленные ими люди молча вопиют о мщении; пусть их, однако, наказывают иные; я не хотел им зла и не понимаю их зверств. Я не понял своего народа, но я не мог способствовать усилению кровопролития в этой стране. В этом мое «испанское честолюбие». Еще в прошлом веке меня насторожил опыт Санто-Доминго. Я и тогда чего-то не понял. Этот остров, он стал ареной кровопролитий и преступлений под флагом борьбы за свободу. Если нельзя избежать этого, пусть они будут еще сто лет под варварским и тупым господством Испании. Когда народ не проснулся, никто из людей не может его разбудить, даже гений.
Как много я понимаю. Как много я понимаю ныне…
Что ж меня мучит это землетрясение, отчего же я не могу забыть… забыть…
Эти бешеные, эти безумные юноши, да поможет им рок, — они не поняли, они оскорбили меня, но мне уже все равно.
Вдалеке от родины, в этой кадисской тюрьме, после издевательств, без перьев, бумаги и без друзей, я думаю лишь о близкой смерти и о том, что судьба, если она справедлива, рассудит меня с народом, с Боливаром, с изуверами «Ла Каррака»; а если…
Тьма уравняет всех.
1
Он чувствовал, что приближается к селению Суача и землям Каноас. Но это еще не сам водопад…
Дорога вновь стала более пологой, пространство ширилось, теснины будто бы равнодушно, разочарованно пошли налево, направо, вперед, будто бы отвернулись и от дороги, и от него, от его коня — и тем самым давали дороге, взору и сердцу волю и расстояние.
Вот она, плоская и просторная высота Чипы. Невдалеке тут каменноугольные копи; надо бы расширить их, но сейчас не о них думы. Ярко-палевое, сочное солнце, сияющие поля.
Окружающий мир вновь отвлек от прошлого; но оно все же продолжало тревожить последними багряными искрами.
Сегодня январь 1830, Патриотическая хунта родилась в апреле 1810; двадцать лет. Завтра ему, Боливару, быть в Боготе; завтра — тяжкая проверка перед собой, перед всеми; завтра он совершит поступок, быть может, внутренне наиболее трудный за эти долгие годы.
Даром ли мучает намять о юности, о первых шагах свободы, революции?
Недаром; и могучая природа, которая вновь окружает его сегодня, как бы подтверждает это.
Молодость, первые шаги — это не все; требуется окончательно, в последний раз пройти, обдумать и все дальнейшее, бывшее в жизни.
Он придержал устало дышащего коня и тронул поводья, чуть поворачивая вслед за дорогой, снова в теснины; и вот пред глазами уж снова было и темное, и угрюмое — мощные песчаниковые скалы, — но между взором и этим камнем как бы еще стояли и зелень, и свет, и небо, и желтизна, и прозрачный простор, и не было на душе ничего, кроме свежести, света и умиления.
Читать дальше