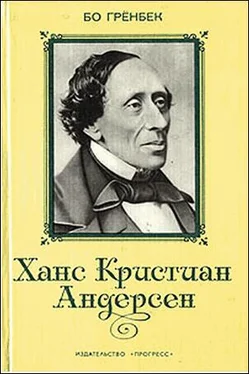Письмо кончается так:
«Едва ли кому-нибудь интересно знать, что и здесь, в Дрездене, я по праву получу признание и радость, что королева Пруссии, как я слышал, крайне милостиво написала обо мне королеве Саксонии, что меня везде принимают министры и люди искусства, но, может быть, вы захотите услышать, что я жив и несчастен. Мир вам!
Ваш преданный Х.К. Андерсен».
Любой на месте Андерсена оживился бы от трезвой жизнерадостности, с которой Коллин в ответном письме одну за другой отметает тревоги писателя.
«Дорогой Андерсен. Я снова берусь за перо, и хотя вы этого не цените, я ценю себя сам, ибо обычно я боюсь начинать длинные письма; но на сей раз мне этого не избежать, после полученного вчера грустного письма». И он объясняет писателю, что если знаменитости за границей чествуют и балуют его более открыто, чем дома, в буржуазном Копенгагене, то он не должен думать, что его презирают в Дании или он сам презирает Данию. «Ибо на самом деле вы с Данией прекрасно ладите и ладили бы еще лучше, не будь в Дании театра; hine illae lacrymae [47]. Проклятый театр постоянно стоит у вас на пути, какая досада; но разве театр — вся Дания, а вы — только театральный писатель? Разве за это вас славят в Германии, а не за сказки? И разве в Дании не любят сказки? Может быть, даже больше, чем в Германии. Но последнее письмо написано под воздействием проходящего дурного настроения, потому что после всех пиров вы внезапно оказались в Дрездене один…»
Несмотря на разницу в складе ума и вытекающее из нее скрытое несоответствие, они всю жизнь были очень близки друг другу, испытывали взаимное уважение и дружбу. В последние годы жизни писателя, когда он обрел надежное пристанище в семье Мельхиоров, эта связь немного ослабла, но Андерсену казалось само собой разумеющимся завещать Эдварду Коллину все свое имущество, как материальное, так и литературное. Это было естественное завершение их отношений, длившихся всю жизнь.
* * *
Простые копенгагенские читатели, литературные авторитеты и семья Коллинов, конечно, занимали решающее место в сознании писателя, и он часто забывал, что в датской культуре есть и другие представители, больше по масштабу и шире по кругозору, и что среди них у него есть такие же верные друзья, как Коллины: Эленшлегер, Ингеман, Й.М. Тиле, Вейсе, Й.П.Э. Хартман, Август Бурнонвиль и Х.К. Эрстед, которые высоко ценили и любили его. Они принимали его таким, как он есть, с ними он мог обсуждать свое творчество. Они подбадривали и утешали его, когда он падал духом, — всем им была знакома душевная борьба художника, и все они натерпелись от придирчивости соотечественников.
Каким уважением он пользовался среди истинных художников на родине, еще до своих европейских триумфов, видно из письма Бурнонвилля в 1838 году, который, в частности, пишет: «Ты сам, мой прекрасный поэт, выбрал свой путь, ты хочешь странствовать; среди терний и расселин ты нашел такие прекрасные цветы, как никто до тебя; среди равнодушия, холодности и насмешек ты видел улыбки, слезы, радость и вдохновение, вызванные твоими поэтическими творениями; некоторые придирались к твоим несовершенствам, но тысячи радовались твоему гению. Некоторые продолжают читать тебе нравоучения; но ты научил нас многому, чего мы не знали до тебя».
Й.П.Э. Хартман, с которым Андерсен неоднократно работал — например, над оперой «Маленькая Кирстен», — ценил его необычайно высоко. «Я сердечно благодарен тебе, — писал он в 1863 году, — за то, что ты написал мне еще одно письмо, в котором просвечивает твое верное, молодое старое сердце, так что я слышу и вижу тебя, вижу, что тебе не очень хорошо среди чужих и что ты стремишься домой, где тебе не нужно бояться неприятностей, потому что их перевесит преданность и участие твоих верных друзей».
Среди менее известных жителей Копенгагена у него тоже было бесконечное множество друзей, которые не критиковали и не читали нотаций, а откровенно восхищались им и как писателем, и как человеком. Среди них была его ровесница, талантливая и оригинальная Хенриэтта Вульф, к которой он испытывал большое уважение и привязанность, о чем свидетельствует их обширная переписка. На склоне лет, как уже говорилось, он встретил необыкновенную любовь и понимание в кружке Мельхиоров.
Поэтому, когда Андерсен называл Копенгаген «мокрым, серым, обывательским городом», это была слишком обобщающая характеристика. Жизнь столицы отличалась большим разнообразием. Копенгагенец вовсе не обязательно был недалеким обывателем. Правда, их было немало, и космополиту вроде Андерсена хватало поводов для досады, но были и другие люди, совсем иного, лучшего сорта. Они занимали меньшее место в его сознании из-за одной присущей ему особенности: потребности искать мрачные переживания и сосредоточиваться на них. Будь он более оптимистичен, описания жизни Копенгагена в «Сказке моей жизни» приняли бы совсем иной вид.
Читать дальше