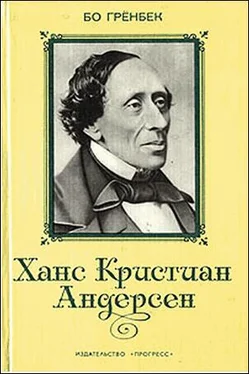Но Андерсен не просто окончательно понял, что «Агнета» не шедевр, как ему показалось в первом приступе восторга, — об этом он уже начал догадываться. Его поразила — что для него очень характерно — манера, в которой ближайший друг ему все это сообщил. Его ожесточение по этому поводу продолжалось много недель и заставило его в самые мрачные минуты считать всех оставшихся на родине зубоскалами и предателями — кроме трех-четырех справедливых, «но скоро и их не останется», как он писал в дневнике еще 2 февраля. Он не возобновлял переписки с Эдвардом Коллином до конца месяца.
* * *
К счастью, в это время у него были не только огорчения и беды. В январе он некоторое время позировал датскому художнику Кюхлеру, который написал замечательный портрет; у него появилось много новых поучительных впечатлений, и наконец он снова начал сочинять. Поначалу в Риме он никак не мог собраться с мыслями, он был потрясен. Он принялся было писать путевые заметки, но скоро бросил. 27 декабря в дневнике появилась запись: «Вечером начал новеллу „Импровизатор“». Как похоже на Андерсена: язвительная, но меткая характеристика Хейберга подсказала ему не только название, но и идею романа, романа о себе самом, но в римском облачении. Первая глава была быстро закончена, он прочел ее Бёдтхеру, который знал Италию, как никто другой, и похвалил «южный воздух, римскую природу». Правда, потрясение от письма Эдварда Коллина на какое-то время приостановило его творческий пыл, но в конечном счете оно, вероятно, сыграло свою роль. Благодаря ему Андерсен с новой остротой ощутил свое положение в мире как поэта и как человека. Ira facit versus [30]. Горечь и разочарование возвысили его дух. Во всяком случае, еще до начала февральского карнавала он много сделал. Этот римский праздник, который так живо описан в «Импровизаторе», принес немало удовольствий и своей пестрой суматохой отодвинул разочарования на второй план. Когда праздники кончились, он вместе с Херцем и еще одним датчанином отправился в Неаполь.
Увидеть Неаполь и умереть
Когда они проезжали мимо Альбанских гор, там выпал снег, но на побережье стояло лето: цвел миндаль, был в разгаре сбор апельсинов, пальмы на берегу качались от ветра, и Средиземное море вздымалось, разбиваясь об утесы, синее, неописуемо синее. И по мере того как они ехали на юг, вокруг становилось все прекраснее и прекраснее. Пейзажи в окрестностях Неаполя превзошли все, что Андерсен видел раньше: краски, изобилие, обширные виноградники и алоэ в человеческий рост. Воздух был подобен сладчайшим поцелуям. «Только теперь я знаю, что такое Италия. Поистине: увидеть Неаполь и умереть!» — восклицал он. Его восторг не знал границ.
Но это было еще не все. Подумайте, какая удача: началось извержение Везувия, по склонам текла лава, а над кратером клубился дым и вспыхивало огненное зарево! Что за фон для человеческих деяний! Мужчины были подобны полубогам, женщины — мадоннам, а дети — рафаэлевым ангелам. По вечерам под его окном пели серенады и играли на гитаре, а он сидел и пил «Lacrimae Christi» [31], вино Везувия, и на каменных стенах домов плясали отблески раскаленного пламени горы! Нет, это было слишком прекрасно! «Здесь, здесь моя родина, ибо здесь я чувствую себя дома», — писал он.
Еще одна удача: в опере выступала знаменитая Мария Малибран. Андерсен услышал ее в «Норме» Беллини. «Это было человеческое сердце, растворенное в звуках; я расплакался». Потом датский консул раздобыл ему приглашения в несколько неаполитанских семей, где обнаружилось, что они знакомы с его стихотворением «Умирающее дитя» во французском переводе, правда прозаическом, но комплименты он все же получил.
Разумеется, надо было взобраться на Везувий. Жуткое и прекрасное восхождение состоялось поздно вечером, при свете луны. Андерсен доехал верхом почти до самой вершины, прошелся, утопая, по глубокому слою пепла (Херц с трудом за ним поспевал), по свежезастывшей лаве, прямо к раскаленному потоку, стекавшему по склону горы; черный дым поднимался кверху и скрывал луну, так что то и дело наступала кромешная тьма: «Я чувствовал, что моя жизнь в руках бога, и у меня кружилась голова от восхищения».
Но на этом романтические приключения не закончились. Ему очень хотелось посмотреть храмы в Пестуме, это была самая южная остановка в его путешествии; он охотно посетил бы Сицилию, но тупые датские власти не пожелали увеличить его стипендию, поэтому он был вынужден оттуда повернуть назад. И все-таки это была чудесная поездка: Помпея, где уже начались раскопки, пышная природа юга, люди с дикой внешностью, характерной для этих краев, такие бедные, что они ходили, завернувшись в темные одеяла, и, наконец, сами древние храмы, возвышающиеся над смоковницами и зарослями чертополоха, где между колоннами было полным-полно фиалок, огромных, прекрасных фиалок.
Читать дальше