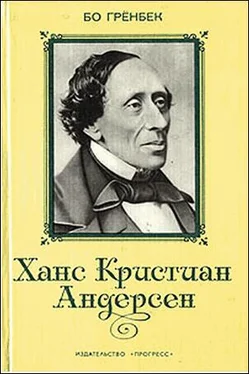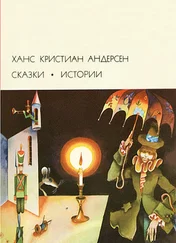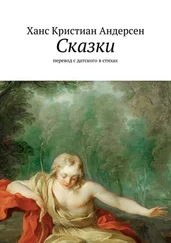Из знаменитостей он встречался с очень немногими, в частности с Гейне, который особенно сердечно приветствовал датского коллегу. Андерсен посетил Виктора Гюго и композитора Керубини, которого знали и любили в Копенгагене, чтобы поговорить соответственно о датской литературе и датской музыке, но к сожалению, Гюго знал лишь Эленшлегера, а Керубини никогда не слыхал о Вейсе. Наконец, уже перед самым отъездом из Парижа, он нанес визит старому слепому П. А. Хейбергу {47} , отцу Й. Л. Хейберга, общественному деятелю, который жил за границей со времени ссылки в 1799 году, а теперь написал в альбоме Андерсена печальные слова: «Примите дружеский прощальный привет слепого!»
Но, как бы ни было интересно вокруг, мысли его часто возвращались в Данию, и он проводил много времени за письмами домой, во-первых, естественно, потому, что чувствовал потребность рассказать обо всем увиденном, а во-вторых, чтобы постоянно напоминать Коллинам о продвижении водевиля, отданного в театр перед отъездом, и о напечатании своих ’«Стихотворений».
В безудержной потребности творчества и в стремлении доказать друзьям на родине, что способен создать что-то новое, он сразу же по приезде принялся за грандиозно задуманное драматическое произведение в двух частях, повествующее об Агнете и Водяном и описывающее «удивительную тягу человека к тому, чего у него нет», эт+у вечную неудовлетворенность, которую Андерсен так хорошо знал по себе и впоследствии так гениально описал в сказке «Ель». Он усердно взялся за дело и еще в Париже закончил первую часть.
Конечно, он часто думал о том, как поживают все его милые друзья, и ждал от них писем. Но как ни странно, он не получал ничего: ни вестей, ни ответов на свои письма. Прошло две недели, месяц, почти два месяца. Даже принимая во внимание медлительность почты, это было странно. Он справлялся в миссии и на почте — писем не было. Он все больше и больше нервничал: почему они не пишут? Неужели меня забыли? Может быть, они хотят бросить меня на произвол судьбы? Особенно горько он переживал молчание своего ближайшего друга Эдварда Коллина, который прежде был сама преданность. Теперь он сильнее, чем когда-либо, ощущал свое одиночество в мире. У других были родители, братья, сестры, невесты или жены — у него были только друзья, которые теперь, казалось, изменили ему.
Правда, через две-три недели одно письмо пришло. Но Андерсен воспринял его как удар в лицо, потому что в письме было не что иное, как вырезка из «Копенгагенской почты» от 13 мая, посланная анонимно, с эпиграммой на него. Такое никому не бывает приятно, а для легко ранимого поэта означало катастрофу. Первое письмо, полученное с родины, — подтверждение его мнения о соотечественниках! Его парализовало это проявление человеческой злобы, низости и зависти датчан.
С этой неблаговидной историей дело обстояло вот как. Вскоре после отъезда Андерсена один наивный человек анонимно напечатал в «Копенгагенской почте» восторженное стихотворение «До свидания, Андерсен!» — десять строф благожелательной, но неудачной поэзии. Дней через десять в той же газете появилась в ответ злобная, также анонимная эпиграмма. Ее-то и прислали Андерсену. Эпиграмма была строгой по форме, но столь несправедливой и развязной по тону, что вызвала в Копенгагене неловкое замешательство, и даже Кр. Вильстер, строгий критик Андерсена, счел себя обязанным публично опровергнуть слух о своем авторстве. Друзей очень огорчили эти гнусные нападки, и Эдвард Коллин опубликовал в «Копенгагенской почте» резкий протест. Но обо всем этом несчастный поэт узнал нескоро. В тот момент ему пришлось утешиться тем, что подобные вещи заслуживают лишь презрения и что гнилых ягод птицы не клюют. Другое, столь же трезвое утешение он получил через некоторое время от старого Коллина: «Париж, дорогой Андерсен, не место для переживаний из-за литературных завистников!» Но заноза все же осталась, и он вспомнил этот эпизод двадцать лет спустя, когда писал мемуары. Там приводится и эпиграмма.
Наконец в июне он получил письмо от Эдварда Коллина, который разъяснял обстоятельства пресловутой эпиграммы и извинялся за свое долгое молчание, которое Андерсен, несмотря ни на что, понять не мог. Ему казалось, что писать письма легко. Он не представлял себе (и никогда этому не научился), что у других людей есть постоянные обязанности, которые часто отнимают целые дни, и что не всем так легко выражать свои мысли, как ему. Но с той поры он регулярно получал в Париже письма с родины. Правда, они казались ему слишком лаконичными, но все же означали, что его не забыли.
Читать дальше