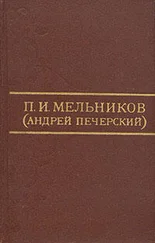Стоит безрукий предо мной
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.
Идея футуристов — épater les bourgeois — утратила свою потенциальную энергию уже к началу первого десятилетия XX века. Мещанин, вместо того, чтобы быть эпатированным, кинулось восторженно приветствовать всякое проявление новаторства. Футуристы смотрели на мещанство сверху; абсурдизм 1920-1930-х годов явился как взгляд на мещанство изнутри и чуть ли не снизу: новое демократизированное мещанство было тотальным, торжествующим. Недоступное эпатажу, чуждое рукоплесканий, апатичное — оно вовсе не замечало художника, вовлекало его в свою социальную утробу. Но природа этих двух течений была, в сущности, одинакова: она — в бессилии художника перед победоносной пошлостью, в искушении ответить ее носителю пародией, утрирующей абсурдность действительности.
Ходасевич лишь ненадолго оказался затронутым этим веянием эпохи — и сделал шаг в сторону своих эстетических антиподов, футуристов и обэриутов. В последних четырех стихах Европейской ночи он оправдывает свои цветы зла:
Нелегкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.
Но уступка эта была столь односторонней и невыразительной, что стихи его в художественном отношении только выиграли, приобретя новые семантические обертоны.
Освобождение от метафоричности, от виноградного мяса поэзии — Ходасевич рассматривал как свое завоевание. Только этим и можно объяснить то, что за пределами Европейской ночи (и вообще собрания 1927 года) остался целый ряд прекраснейших стихотворений — среди них, например, такое:
Трудолюбивою пчелой
Звеня и рокоча, как лира,
Ты, мысль, повисла в зное мира
Над вечной розою — душой.
К ревнивой чашечке ее
С пытливой дрожью святотатца
Прильнула — вщупаться, всосаться
В таинственное бытие.
Срываешься вниз головой
В благоухающие бездны —
И вновь выходишь в мир подзвездный,
Запорошенная пыльцой.
И в свой причудливый киоск
Летишь назад, полухмельная,
Отягощаясь, накопляя
И людям — мед, и Богу — воск.
Такого рода пренебрежение к своему несомненному успеху (ибо Ходасевич, при всей его взыскательности, не мог не сознавать, что это успех) кажется неоправданной расточительностью **, — но потребность выдержать общую тональность книги оказалась для него настоятельнее.
** Быть может, поэт и не пренебрег этим стихотворением, а лишь, приберег его — для следующей книги, для другой, более восприимчивой к метафорам эпохи.
(Заметим еще, что турецкое по своему происхождению слово киоск, смущавшее советского читателя, пришло из Западной Европы и означает, собственно, павильон.)
Некоторые критики и мемуаристы утверждают, что упадок Ходасевича прослеживается уже в Европейской ночи.
«Европейская ночь», в которую вошли стихи, написанные Ходасевичем за пять лет (1922-1927), совсем небольшая книжка: в ней всего двадцать девять стихотворений.
В. Андреев. Возвращение в жизнь. 1969.
Есть разные мнения о том, что такое книга стихов. Евгений Боратынский включает в свои Сумерки лишь 26 стихотворений, содержащих 570 стихов. В Собрании Ходасевича находим следующую статистику:
Путем зерна
— 36 стихотворений, 847 стихов,
Тяжелая лира
— 47 стихотворений, 801 стих
Европейская ночь
— 29 стихотворений, 942 стиха.
Видно, что объем книги — совершенно обычный для Ходасевича и даже несколько превышает объем двух предыдущих. Обычен и срок, в который она сложилась: между выпуском Тяжелой лиры (1921) и Собрания стихов (1927) прошло около шести лет; таков же интервал и между первыми тремя его книгами (1908, 1914, 1920). Мы видели, какие вещи не вошли в Собрание: количественно таких прекрасных стихотворений не менее десяти. Но и это не все. Шесть новых, написанных за рубежом стихотворений этого периода включены в переработанные варианты Путем зерна и Тяжелой лиры, сами эти книги подверглись тщательной редактуре и исправлениям:
всего в них добавлено 11, а исключено 12 стихотворений. Без преувеличения, годы Европейской ночи для Ходасевича — это годы «процветающего жезла», даже если говорить только о поэзии.
Читать дальше

![Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]](/books/23869/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv-thumb.webp)



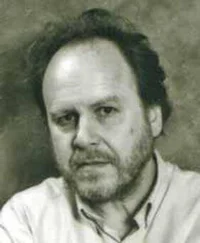

![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/206728/igor-beleckij-anton-brukner-1824-thumb.webp)