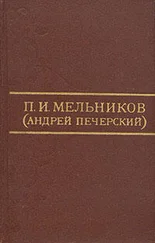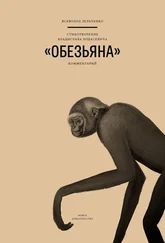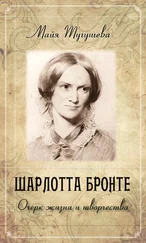В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных
Льдин взгроможденных толчея.
Гласных–согласных в рифме — это ведь почти хрестоматийная нелепость, почти пальто–полупальто, рифма, которой маститые наставники дразнят начинающих поэтов.
Но — опять вспомним слова Андрея Белого***** — почти.
***** «Как в "чуть-чуть" начинается тайна искусства, "почти" — суть поэзии Ходасевича…» (1922).
Поэзия, как и жизнь, совершается по определенным правилам, и разрушать их значит всего лишь создавать новые. Однокоренные слова рифмовал Пушкин. Изощренная рифма ошеломляет только новичков, и малейший элемент натянутости в ней мгновенно обесценивает поэзию. В действительности из стихов Ходасевича вместе с влагой ушло не искусство, а искусственность, обнажив сокровенную иррациональность поэзии, ее изначальную тайну. То же, что о рифме, можно сказать и о пышной звукописи. В разреженном воздухе послевоенной Европы любое подобие барокко ничему не соответствовало, было простой ложью. Элементарная в смысле отбора средств поэзия Ходасевича точно передает строй и смысл его клонящейся к закату жизни на фоне этой Европы, рельефно и ярко рисует лирическую индивидуальность поэта:
Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай!
Дать в четырех стихах столь выразительный автопортрет, не прибегая к личному местоимению, — искусство, доступное лишь очень немногим. Цельность и полнота, с которыми предстоит нам Ходасевич в своих последних стихах, поистине монументальны.
«В некоторых его стихах подвергается критике буржуазно-мещанская цивилизация Запада», — говорит о Европейской ночи БСЭ. Еще раньше в том же смысле высказывался Горький: «Вне поисков "цветов зла" ум его ленив». Эти замечания поверхностны и схематичны. Ходасевич был далек от плоской идеи что-либо критиковать в своих стихах, не занимался он и выискиванием язв современного ему общества. Но правда и то, что стремительная демократизация европейского мира и, как следствие этого, захлестнувшая его волна всеобщего мещанства, не оставили творческий инстинкт поэта бездеятельным. Своеобразная психологическая ситуация 1920-1930-х годов обозначилась тогда у некоторых художников как потребность в ёрничестве, юродстве: этом изнаночном проявлении духовного аристократизма, родственном футуризму. В кинематографе она тотчас нашла своего выразителя в лице Чарли Чаплина. В русской поэзии Петрограда явились обэриуты: Заболоцкий, Введенский и Хармс, в Париже на нее неожиданно отозвался Ходасевич. Шесть последних стихотворений Европейской ночи образуют не выделенный общим названием цикл о маленьких, обездоленных людях: «жалость», «нежность» и «ненависть» * мешаются в авторском отношении к ним. Из этой смеси рождаются лирические герои стихотворений Баллада (1925) и Джон Боттом (1926), поведение которых абсурдно.
* В наброске, относящемся к 1925-1927 годам, Ходасевич дает ключ к своему пониманию нового мещанства:
Как больно мне от вашей малости,
От шаткости, от безмятежности.
Я проклинаю вас — от жалости,
Я ненавижу вас — от нежности.
Абсурдизм Ходасевича несравненно мягче и тактичнее, чем у петербуржцев, — настолько же, насколько мещанство Парижа было галантнее самодовлеющего мещанства России. У обэриутов, с их черным юмором и презрением к красоте, автор сам, в акте творения, юродствует перед читателем. У Ходасевича — лишь герой стихотворения ведет себя неадекватно обстановке.
За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком.
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?
Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:
— Pardon, monsieur, когда в аду
— За жизнь надменную мою
— Я казнь достойную найду,
— А вы с супругою в раю
— Спокойно будете витать,
— Юдоль земную созерцать,
— Напевы дивные внимать,
— Крылами белыми сиять, —
— Тогда с прохладнейших высот
— Мне сбросьте перышко одно:
— Пускай снежинкой упадет
— На грудь спаленную оно.
Читать дальше
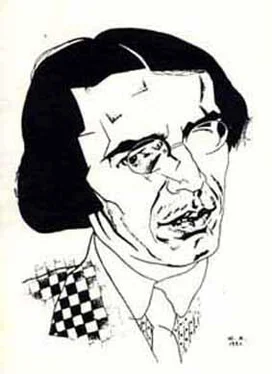
![Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]](/books/23869/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv-thumb.webp)
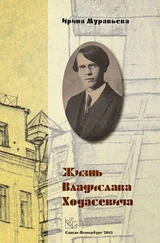
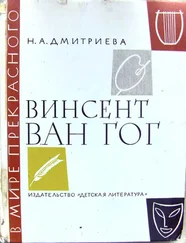

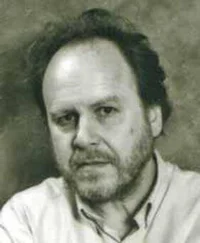

![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/206728/igor-beleckij-anton-brukner-1824-thumb.webp)