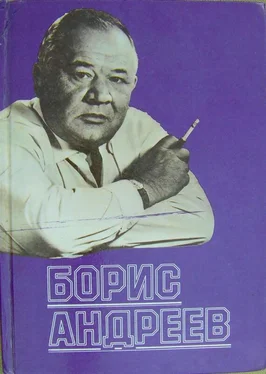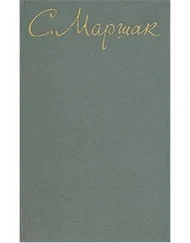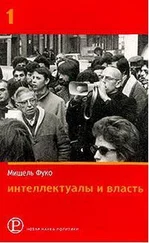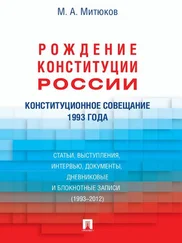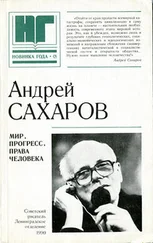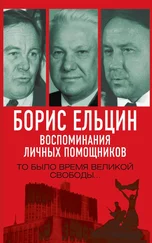Человек необузданно стихийный, он напоминал мне Чапаева, но Чапаева, который так и не принял Фурманова до конца. В его любви к искусству, в отношении к собственной работе было что-то религиозное, фанатическое, что-то истовое.
Понятно, что в этих словах не надо искать характеристику мировоззрения Пырьева: я пытаюсь только найти выражение для своего ощущения характера режиссера. Трудно, очень трудно и, по-моему, мало кому удалось проникнуть в личный мир Ивана Александровича. Мало кому открывалось то сокровенное, сокрытое в глубинах его души, что составляло его суть. На поверхности же… В свое время некоторые режиссеры, которым приходилось работать рядом с Пырьевым, часто жаловались на его необъективность — он судил их работы по законам, которые сам исповедовал. И суд его был суров и непреклонен. Но многие ли понимали, как он был одинок в своих сокровенных чувствах и как сполна «выкладывался» в своем искусстве. И редко позволял себе открываться, искать интимной близости даже с теми, с кем работал долго и согласно. При мне, скажем, актерам никогда не удавалось вовлечь его в какую-либо задушевную беседу. И в то же время он был нераздельно и постоянно со всеми, но в этом «со всеми» для человека чуткого и внимательного опять-таки существовала некая особенность: он был со всеми, но как с людьми, исполняющими дело его жизни, его творческую волю. Да, он любил хорошего сопостановщика, как любил добросовестного парикмахера, даже рассыльного, кого угодно, любил всех, кто обладал его, пырьевской, преданностью делу, беспредельной выносливостью, терпением и отличным знанием дела. Это была любовь требовательная, любовь владельца к хорошо отлаженному механизму, способному безупречно выполнить поставленную задачу. И это было во многом прекрасно. Тем более, что тоже очень важно, он умел подбирать людей и поддерживать в них дух целеустремленной активности. Ведь, начиная сниматься, ты попадаешь не только в круг общения с милыми людьми, но и в сложнейшую трудовую атмосферу. И меня, когда я работал с Пырьевым, всегда захватывало настроение внутренней напряженной готовности к труду, стиль высокого профессионализма.
Достигалось это прежде всего благодаря настойчивой и усиленной отработке кадра до начала съемки. Гонять нерадивого актера на репетициях он мог, как говорится, до седьмого пота. И он гонял беспощадно и настойчиво до той поры, пока не возникал окончательно устраивающий его вариант. Взаимоотношения актера и режиссера во время съемок порой могли обостриться, так что я, например, почти всегда выходил на съемочную площадку так, как боксер, очевидно, выходит на ринг. Я всегда был во всеоружии, был готов немедленно приступить к «поединку».
Мне нравилось работать с Иваном Александровичем еще и потому, что в процессе репетиций и съемок он никогда не ставил перед актером умозрительных задач. Он давал конкретное решение эпизода, сцены, а потом уже сам актер, вдохновению интуиции которого режиссер доверял, мог развивать и обогащать характер своего героя. Иван Александрович хорошо знал цену актерскому вдохновению, никогда не подавлял его тяжестью теоретических умствований или школьных правил. Именно он первый обратил мое внимание на то, что до окончания съемочного процесса актер не должен много оговаривать свою роль, закреплять сущность создаваемого образа в законченных формулировках. От высказанного, выговоренного возникает — пусть неосознанно — ложное ощущение уже достигнутого, пережитого. Работа на съемочной площадке тогда становится всего лишь повторением пройденного. Может быть, это мое личное ощущение, но оно проверено многими годами работы в кино. Я лично больше всего боюсь потерянной свободы и угнетенной интуиции во время съемки. Этого же всегда боялся, не терпел Иван Александрович Пырьев. Я помню, как одному из актеров он не без присущего ему лукавого ехидства заметил: «Каждый художник в школе заучивает правила для того, чтобы потом не думать о них. Так что, дорогой друг, помимо школы неплохо бы иметь в своей черепной коробочке еще и личную академию».
…Поистине величава и прекрасна украинская ночь, да еще у такой чудесной реки с тихими камышовыми заводями, как Буг, да еще в таком чудесном, добром селе, как Гурьевка под Николаевом, где мы снимали картину «Трактористы». Мила моему сердцу и незабываема Украина с гостеприимными и великодушными ее жителями, с добрым вином и незабываемо чудесными песнями, услышанными тогда мною впервые в жизни и живо воспринятыми. Особенно когда, бывало, часа в четыре утра возвращались с Петром Алейниковым с сельской вечеринки, возвращались, когда на селе все уже спали и только светилось окно у Ивана Александровича.
Читать дальше