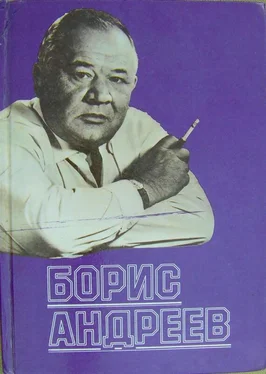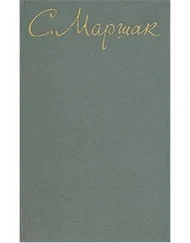— Чуешь, Косточка, как душа-то переселяется? — спрашивает он меня, блаженно всхлебывая чаек.
— Чую… — ответствую я ему в лад, — чую, батьку!..
И самоварный чувственный дух нежно окутывает и обволакивает нас обоих.
— Эх, Косточка, — вздыхает Борис Федорович, слабея и обильно струясь потом, — вырежут нас с тобой из картины, как пить дать вырежут. Вставной мы с тобой номер, Косточка! Кабы еще на сюжет мы с тобой хоть немного работали, а то ведь и на сюжет мы с тобой ни хрена не работаем.
— Ну, вас-то не вырежут, не посмеют, — изнуренно возражаю я, допивая четвертую чашку, выпучив по-рачьи глаза и не в силах оторваться от счастья.
— Вырежут! В том-то, братец ты мой, и штука, что и меня вырежут! Отошел я, как овощ, как переспелая груша…
— Не вырежут вас…
— Вырежут, Костька, и не возражай…
Иногда я думаю, что он прошел над людьми как благодатное весеннее грозовое облако, окутал, оглушил громами по-доброму, обдал живительной влагой и ушел за горизонт, оставив после себя ощущение чуда, радостное чувство приобщения к чему-то несказанно большому и русскому, к такому же, как лес, как река, как пашня, а выглянувшее солнце обернуло эту счастливую влагу в поднимающийся от земли душистый пар, в готовность и нетерпение жить, дышать и плодоносить.
Такое было ощущение от общения с ним. Такая таилась в нем живительная сила.
Так в чем же, спросите вы, причина, загадка мятущейся души?..
Его вынесло на гребень популярности кино в середине тридцатых годов. Роли, которые он играл, отличались народностью, простотой и прямодушием. Особенно он стал популярен в фильмах предвоенных и военных лет: «Трактористы», «Большая жизнь», «Два бойца». Широта и простодушие его героев не требовали от него каких-либо психологических усилий, — герои были обаятельны и открыты. Однако уже тогда, надо полагать, роли эти вряд ли могли устраивать его сполна. Кино же все надежнее и окончательнее его в этом амплуа закрепляло. И в душе артиста, мятежной и глубокой, стал намечаться разлад между его обаятельными, но наивными ролями и ролями многослойными и драматическими, которые он еще не сыграл, но на которые был нацелен и приготовлен самой природой. Многих режиссеров, я думаю, обманывала его внешность, на первый взгляд предполагавшая в нем укоренившееся уже амплуа добряка, даже простака, которому «силы некуда девать». Недаром ведь в середине пятидесятых годов он сыграл роль Ильи Муромца, богатыря силы недюжинной.
Популярность артиста росла. В пятидесятые же годы им сыграна была роль Журбина в фильме «Большая семья». Роль замечательная. Но драматический разлад между тем, что делал и что мог, все же усиливался. Вот в это время я и встретил его на палубе «Цесаревича». Он не всегда говорил мне обо всем этом впрямую.
Но эту его драму я чувствовал постоянно. О ней отчасти и мой рассказ. Он трагически сознавал, что его могучий внутренний потенциал используется лишь частично. Он был на много голов умнее и выше своих ролей, сложнее и глубже их.
Потом уже, когда мы расстались после окончания съемок, мы встречались, увы, не так часто. Я с радостью отмечал, что Борис Федорович все больше стал играть роли сложные, неоднозначные, под стать Лазарю Баукину. Появились фильмы «Дети Ванюшина», «Ночной звонок». Потом была роль директора большого завода в телевизионном фильме «Мое дело» — характер своеобразный, глубокий. Была и драматическая роль Блистанова в фильме «Сапоги всмятку». Там, в этом фильме, словно разбудили вулкан, до сих пор мирно дремавший, такой им был обнаружен сокрушительный темперамент. Вообще в большинстве этих его последних ролей звучит уже иной Андреев, приближающийся к своей глубинной сути.
А встретил впервые я его давно. Еще задолго до фильма «День ангела».
ВЫСШИЕ КУРСЫ КИНОРЕЖИССЕРОВ В МОСКВЕ.
1965 ГОД…
Мы выходим в перерыве в небольшой и не очень освещенный коридор. В темном углу сидит кто-то очень большой и грузный. Угол этот темный сопит, вздыхает тяжело. Присматриваемся: знаменитая, почти хрестоматийная фигура. На лоб уныло надвинута устаревшего покроя мягкая большая кепка. Большое добродушное лицо его всем нам знакомо давно. С детства. Это Борис Андреев. Он сидит в углу и печально дышит. Вероятно, ждет кого-то. Смотрит равнодушно-вопросительно на нас. И издает вздохи. Сама же огромная фигура его почти неподвижна. Здесь, в этом темном коридоре, он кажется большим пароходом, заплывшим по недоразумению в тесную, не по его размерам гавань — ни повернуться, ни пошевелиться, остается только вздыхать тяжело, выпуская с шумом пары. Тесно ему, да и тоскливо отчего-то…
Читать дальше