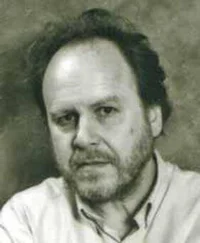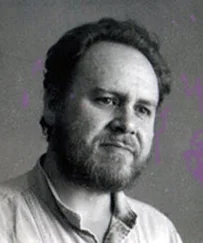Не скажу, чтоб Садистская была характерна для Израиля. Два других дантиста не только исчадьями ада не казались, а просто были добры ко мне. Спустя месяцы, когда я начал зарабатывать… пардон, получать зарплату, я стал ездить в иерусалимский район Рамот, к Анне Марковне Иоффе, принимавшей прямо у себя в квартире. Она была обходительна, сочувствовала моему горю, исправила, что можно было исправить после погрома Садистской, деньги взяла с меня умеренные, но всё рано заплатил я больше, чем мы с Таней получили на двоих из Сохнута. После Анны Марковны мой облик оказался скроен не из одного, а из двух кусков.
Третий мой израильский дантист, Виктор Мельман, был и вовсе удивительный человек: мой читатель. Нет, не стихи, конечно, он читал, а какую-то публицистическую прозу… хотя кто знает? Автограф на книге стихов я ему точно давал. Вот кто и в самом деле казался мне мудрецом с подстилающей философией (каковым вообще всегда должен представать пациенту всякий настоящий целитель). В связи с Мельманом я не спрашивал себя: что это за профессия. Отдавался ему в руки с доверием. И вот вам чудо из чудес: был случай, когда Мельман вовсе не взял с меня денег за пломбу. Просидел я у него в кресле больше часу — и вышел, не обеднев ни на шекель. Кажется, я в этот момент был без работы, и он знал об этом, но здесь для меня даже не в деньгах состояло главное, здесь самый жест с его стороны был драгоценен. В сущности, физическая и нравственная мука в зубоврачебном кресле с детства всегда выливались у меня в одно: в жажду сочувствия и участия со стороны дантиста; нестерпимо хотелось, просто мечталось, чтоб он во мне человека видел. Мечталось — и осуществилось, притом в Израиле. Сейчас я спрашиваю себя: те московские дантисты начала XX века, которые Маяковского лечили за автограф, не из евреев ли были?
Через год или два, в приемной перед кабинетом Мельмана (улица Шаммай, 12-гимель), я как-то столкнулся с Воронелем, приезжавшим из Тель-Авива по той же надобности. Он уходил и прощался; мне нужно было садиться в кресло, для разговора времени не оставалось; но кое о чем мы всё же успели перемолвиться. О чем? Об эстетике; не о сионизме же. Я поругал кого-то из его авторов за плохой русский язык. В ответ Воронель назвал меня пуристом (случилось это во второй раз в моей жизни, первый — на счету Глеба Семёнова; третий раз то же самое скажет Житинский в 2003 году). Коснулись и зубовных дел. На мои сетования, что вот, мол, не повезло мне в жизни, зубы выдались плохие, сионист не утешил меня в моей общечеловеческой скорби (как я на то рассчитывал), а произнес назидание:
— Зубы, — сказал он, — нужно было в России делать.
То есть он думал, что уж в России-то у меня, как у всех , деньги были… да и не о зубах это было сказано, не о юдоли слез людских, а о протезах. Что до денег, то хоть и очень бедны мы были в Израиле, а рядом с бедностью нашей в Ленинграде новая бедность могла казаться зажиточностью.
Тогда же Воронель предложил мне писать… о нравственности (видно, рассудив по пословице с паршивой овцы хоть шерсти клок ). В сущности, он тут был последователен: сам в своих писаниях интересовался этикой, и обратился, к кому следовало: меня тема занимала. Я потому и запомнил это словечко — пурист — что оно мне казалось узким. Сам-то я считал себя в ту пору ригористом.
Без некоторых еврейских словечек не обойтись; они вошли в плоть и кровь… употребляют же, притом все кругом, слово хохма и еще десяток подобных, взятых прямо из иврита. Шмира — ничуть не хуже; означает: охрана; шомер — переводится как сторож … А еще ведь есть выражения, которые без оглядки на еврейскую культуру не истолкуешь. Что, например, значит по-русски свинью подложить ?
Пятницы мелькали, словно пятки. Серьезная работа для меня еще не маячила; деньги, странное дело, были нужны (они почему-то всегда нужны), а тут мне говорят: есть место в шмире. Существуют в Израиле специальные частные компании, поставляющие сторожей другим компаниям и учреждениям. Работника (сторожа) обычно доставляют на место дежурства и привозят домой после смены; так и у меня потом случалось, но на свою первую шмиру я ездил сам, добирался на двух автобусах вечером, и так же возвращался утром; а билет стоил 70 шекелей. Сторожил я министерство жилья и строительства, мисрад-а-шикун-вэ-биньян, новенькое здание из теплого иерусалимского известняка с традиционной для местных новостроек рустической облицовкой. Просторный холл, в котором я сидел с напарником, тоже русским, казался мне дворцовым залом. Во всём здании были полированные каменные полы под мрамор, такие же, как и всюду в Израиле, включая частные квартиры (исключая — только наш пещерный городок, где пол был бетонный); эти сияющие полы всё еще изумляли меня, особенно тут, в новом здании, где в них можно было глядеться, как в зеркало… С напарником мы потом устроили так, что ночью дежурил только один из нас. Обязанности были несложны: обходить помещение, проверять сигнализацию; труднее всего было отвечать на телефонные звонки, впрочем, нечастые; снимая трубку, я сжимался в комок — и зря: от шомера никто хорошего иврита не ждал. Первый раз я вышел на дежурство в воскресенье, 12 августа 1984 года.
Читать дальше