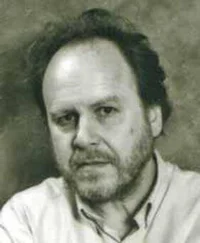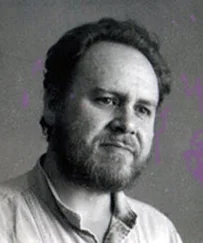Мы добрались к Адамсу. Тот профессор был молод, этот — стар, высок, обаятельно нескладен, и в шортах, как я. Гуляли вдоль речки Ахьи. Он слышит только правым ухом (левая часть лица неподвижна), ухо отгибает правой рукой и наклоняется к собеседнику. При нем жена Лейда Юрьевна, «очень социальный человек» (постоянно принимает гостей). На даче гостит машинистка Адамса с сыном.
— Вам вместе постелить? — спросила Лейда Юрьевна меня и Свету.
Ходили к Юрию Михайловичу (Юрмиху) Лотману, заведующему кафедрой русской филологии. О нем Адамс говорит:
— Мировая величина, глава école de Tartou.
Я слушаю и не понимаю: отчего он так щедр, почему Лотмана хвалит, а не себя? Вы-то, Вальмар Теодорович, вы ведь тоже мировая величина, разве нет? Мне почти жаль его, мне страстно хочется, чтоб и он оказался мировой величиной; ведь я его и дальше переводить собираюсь. И кое-что на это указывает: он дружил с Карелом Чапеком в Праге (где прожил два года), с Игорем Северянином в Эстонии (куда тот эмигрировал). Он только что получил письмо от Генриха Бёлля, с предложением вступить в Пэн-клуб. Вы вступили?!
— Я даже не ответил…
Еще бы: письмо было послано одновременно с таким же письмом Солженицыну. Адамс хочет издать еще одну свою книгу, изборник , а в издательстве тянут, допытываются, с кем из профессоров в США он переписывается.
— Раньше я писал стихи… Теперь я историк литературы…
Отчего у меня сердце сжимается, когда я это слышу? Ведь человек, в сущности, счастливую жизнь прожил; ему 73 года — и он еще бодр, преподает, мыслит.
При имени Северянина я морщусь, а он говорит:
— Да, безвкусица, полное отсутствие культуры, но ведь как он писал стихи! За обеденным столом, во время беседы, единым духом — ведь это биологическое чудо! А голос какой? Однажды в грозу он читал на память свои стихи под этакой античной бельведерой — и перекрывал гром! Случалось, после обеда он сидел у камина и пел одну за другой арии из какой-нибудь оперы, да так, что стены тряслись…
Чапека Адамс знал в его лучшие годы — когда тот был знаменит и любим; когда президент Масарик, случалось, заглядывал к нему поболтать.
— Чапек всегда знал, какая [sic!] у меня любовница, но запомнить мою национальную принадлежность было выше его сил…
Лотман — человек с усами. Зачем семиотику усы? При нем сын лет десяти-двенадцати, у которого по глазам видно, что он прочел всё на свете и еще чуть-чуть. Беда с этими евреями. И ведь тоже, небось, усы будет носить, когда вырастет… Меня просят почитать стихи. Я не отказываюсь, но и не злоупотреблю, читаю ровно одно стихотворение, причем младший Лотман меня глазами пожирает.
Афины, этот спрут, в гордыне уличён
У локрских берегов, в отваге детской,
Где двадцать кораблей выводит Формион —
Один к пяти! — на флот пелопоннесский.
Мой непривычный глаз резни не разглядит.
Туда, где сгрудились триремы кучей,
Веди меня по водам, Фукидид,
Дразни меня, выматывай и мучай.
И что за благодать: неравный этот бой
Пытаться разглядеть, над водами виднеться
Бакланом молодым, заигрывать с судьбой
И в детство человечества глядеться!
Тысячелетний зной, векам потерян счёт,
Под выгнутым крылом — залива постоянство,
Над берегом пророческим течёт
Внимательное, ясное пространство.
Тут уж и Адамс на меня уставился своим перекошенным (мне казалось — от изумления, а не от инсульта) лицом:
— Как, вы Фукидида читали?!
От Лотмана не осталось тогда ни слова — ни в дневнике, ни в памяти. Я ведь не к нему ехал. В годы отказа, в Ленинграде, мне довелось слушать одну его лекцию. Лотман нарисовал мелом на доске чертеж, из которого я заключил, что он сейчас примется новым способом доказывать теорему Пифагора: пифагоровы штаны на все стороны равны. Это и оказались штаны, но другие, петиметровы.
— Петиметром, — провозгласил культуролог, — мог стать всякий, а денди — это была благодать.
Его комментарий к Евгению Онегину я в те же годы прочел взахлеб. Одно там раздражало: зачем автор вместо Пушкин (Пушкин а , Пушкин у …) пишет всюду П без точки, да еще курсивом выделяет. Не играли это в науку, не дешевка ли? Сэкономил две страницы в книжке на пятьсот страниц и затруднил чтение. Имя у поэта склоняемое; иной раз неясно, «кто кого», действительный ли на дворе залог или страдательный. Чуть позже я столкнулся с рассуждением Лотмана о метафоре пути в стихотворении Лермонтова Выхожу один я на дорогу — и тут уж вовсе обомлел: выходило, что маститый литературовед не понимает стихов. Не идет лирический герой Лермонтова по дороге; только выходит на нее. Стихи самым своим тоном не оставляют в этом сомнения. Жизнь поэта — тоже. В дорогу он бы верхом отправился. Но тут Лотман не одинок. И другие маститые да именитые (Тарановский, Якобсон) делали ту же анекдотическую ошибку. Тоже стихов не понимали. Якобсон, бедняга, так и умер с верой, что Маяковский — поэт, да еще великий. Так и вижу, как он руку Сталину пожимает, другому великому языковеду.
Читать дальше