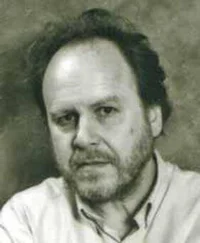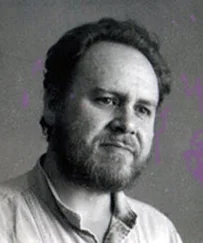Мы косвенны, как мухи на стекле.
Любой ответ содержится в вопросе.
И нет проблем. И есть на всей земле
для всех систем одно решенье: осень…
— а я страдал от мысли, что надо бы запятую убрать и строчки иначе расположить, но не поправлял, уважая ее труд.
К советским праздникам газета, естественно, украшалась по краям рисованными красными знаменами — и один раз эти остроумцы прошили ватман по краям белыми нитками, как раз через знамена. Название у газеты тоже было какое-то ерническое, сумасшедшее, в духе Хармса (которого мы тогда не знали). Газету снял партком, но никто не пострадал, и даже выпуск газеты не отдали в другие руки. А в 1967 году, как раз после Шестидневной войны, стенная газета физ-меха вышла с моими, хм, сионистскими стишками… Что за вожжа мне под хвост попала? Ни на минуту я не был сионистом. Не иначе как Фейхтвангер попутал.
— Мамая, я поеду в Иудею!
— Брось свою нелепую идею!
Там война на море и на суше,
Вся страна в огне, и храм разрушен,
Реки изошли болотной тиной,
По дорогам скачу сарацины,
По пустым дворам собаки лают,
Весь в крови лежит Йерушалаим,
Ах и ой! Куда ты взгляд ни кинешь —
Попраны законы и святыни,
Ум и совесть не имеют весу…
Поезжай-ка лучше ты в Одессу.
(Здесь Ах и ой — из Фейхтвангера, это уж точно; на иврите говорят ой-ва-вой .)
Вообразите: и это сошло! Никуда меня не таскали, никто слова не сказал; Ильенкова с Шифриным не тронули, только газету, по обыкновению, снял партком. Вегетарианская эпоха. А за двенадцать лет до этого человек из другого ленинградского вуза сел на порядочный срок (и, по слухам, погиб в лагере) за такую вот шутку:
Дайте мне женщину белую-белую —
Я на ней синюю линию сделаю.
Дайте мне женщину синюю-синюю —
Я на ней белую сделаю линию.
Самым обаятельным лектором в моей жизни был Михаил Захарович Коловский. Сейчас допускаю, что он же был и самым крупным ученым нашей кафедры в конце 1960-х. Тогда это трудно было заподозрить в скромном, улыбчивом и не совсем молодом доценте — рядом с молодыми докторами Челпановым, Катковником и Полуэктовым, рядом с Первозванским, который казался человеком нобелевского или около-нобелевского масштаба. В сущности, я даже недоумевал: как это Коловский — не профессор? Умен он был, что называется, наглядно… да что там: казался умнее всех; облик имел самый профессорский, — но был хром, и я как-то для себя решил, что болезнь помешала ему сделать блестящую научную карьеру. Позже я навел справки и ахнул. Карьера Коловского оказалась более чем блестящей (даже более чем карьерой: он оказался ученым мирового масштаба). Но становление его протекало медленно; кандидатскую он защитил в 35 лет (я свою написал в 28, защитил в 32); к высокой математике пришел от низкого железа, от машин. Я был почти влюблен в Коловского. Что мне помешало попроситься к нему, выбрать его руководителем, когда дошло до диплома? Вот это и помешало: железо, машины. Шестеренки внушали мне астральный ужас; слово инженер пахло керосином. Чтобы понять, как далеко простиралась моя ненависть к машинам, скажу, что автомобиль так и остался для меня мерзостью, а не «средством передвижения». Никогда я не мечтал сесть за руль.
На пятом курсе мне пришлось слушать лекции Первозванского. Что именно он читал, напрочь вылетело у меня из головы (как и вообще вся наука). Мерещатся какие-то стохастические процессы, дифференциально-интегральные уравнения. Экзамен я сдавал ему досрочно. Комната на кафедре плохо соответствовала предмету разговора, очень теоретическому: рядом был чуть ли не станок, и я совершенно не понимал, что он делает на нашей кафедре. Я рассказал всё, что надо; начались дополнительные вопросы. Всё шло гладко, пока Первозванский не предложил мне написать передаточную функцию какого-то процесса. Пропотев положенные минуты, я сдался.
— Пятерку я вам поставлю, — сказал Первозванский, — но вы — не то, что мне о вас говорили. Я и сам не могу написать эту передаточную функцию.
Каков, однако ж, профессор! Хотел, выходит, чтобы студент прямо на экзамене решил научную проблему. Или, может быть, хотел услышать доказательство того, что она, эта проблема, неразрешима. Высоко же он меня ставил. А кто и что мог ему говорить обо мне, этого я так и не выяснил. Не иначе как отец одной из девушек, за которыми я ухаживал, тоже профессор. Не ясно только, кто именно. В моем хороводе профессорских дочек было несколько.
Читать дальше