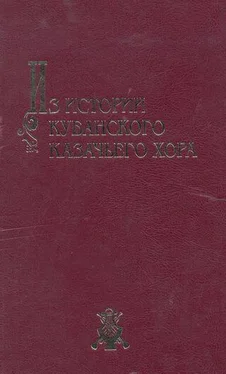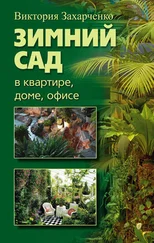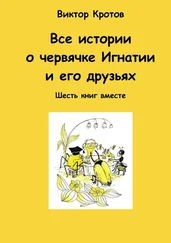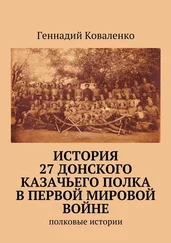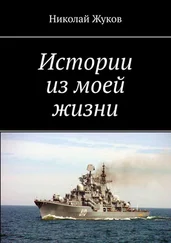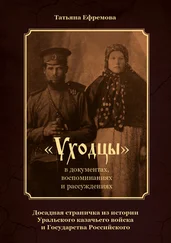В этот день обычно устраивались пышная соборная служба и парад. Вот как проходил этот праздник еще в конце прошлого века. В 9 часов утра к зданию Кубанского областного правления в Екатеринодаре собирались все наличные чины Кубанского казачьего войска, назначенные участвовать в церемонии войскового круга, и станичные атаманы с депутатами от всех станиц. Войска оцепления располагались шпалерами по всем сторонам Красной улицы от здания правления до собора св. Александра Невского, перед которым был устроен деревянный намет для совершения богослужения в кругу войсковых регалий. С обеих сторон соборной площади возвышались специальные эстрады для городских и станичных зрителей. Как только из здания правления выносились казачьи святыни, войска брали на караул и наказной атаман открывал церемониальное шествие.
Первыми в направлении к войсковому собору отправлялись 12 нижних чинов по два в ряд — с куренными значками, унаследованными от Запорожского войска; далее депутаты от станиц несли 13 куренных медных перначей и 14 малых булав; за ними следовали полковые знамена: одно хоперское 1737 года, 14 пожалованных Павлом I, 6 — Александром I, 7 — Николаем I и 4 пожалованные императором Александром II. За ними двигался войсковой хор, несший две серебряные трубы, подаренные Екатериной II войску. Следующими по очереди шли штаб — офицеры с ассистентами, несшими грамоты Екатерины II 1792 года, повеления императора Павла I 1799 и 1801 годов, грамоты Александра I и Николая I, рескрипт Александра II и его мундир. За регалиями следовал наказной атаман, имея в руке булаву — подарок Черноморскому войску в 1792 году. Шествие сопровождалось звуками военных маршей. На соборной площади регалии окроплялись святой водой и служился благодарственный молебен. Всюду царило приподнятое настроение. То там, то тут скатывалась слеза на седой ус казака, искрился чей‑то молодой взор…
Не умирай в народе, призванном к славным подвигам оружия, не умирай и не блекни память о высоких наградах — и пусть знают о них и мать, и малые дети казака, и наезжие гости его!
Вот когда, казалось бы, казаку можно было и расслабиться: прихвастнуть былыми подвигами, утвердиться в сознании собственной значимости: но тщеславию не было места на этом празднике, потому что в конечном итоге всему, что составляло гордость кубанца, казак был обязан Всевышнему — так от века считали запорожцы. «Всякий умирающий казак, если имел на себе икону, крестик или был жалован значком или царскою медалью, непременно отписывал все это на церковь, и после его смерти его атаман или хлопец, то есть верный слуга, вешал оные на иконостасе у избранной умершим иконе» [97] Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Одесса, 1846. Ч. 3. С. 266–267.
.
Удивиться и помыслить! То, что многие почитают пределом своей нравственной работы — нелицемерный отказ от иллюзорных благ этого мира в обмен на славу совершенного, для казака оказывается недостаточным: ничто не желает назвать он своим. И горят наградным серебром слова на черкесках потомков славных рыцарей степи: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу», как свидетельство высшей формы человеческого бескорыстия — бескорыстия нравственного.
…Умолкают последние звуки песни. Во всех кубанских войсковых частях поющие, будь то высшие чины в офицерском собрании, рядовые казаки в своем кругу или даже их служилые товарищи — черкесы, при словах последнего двустишия:
Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон… —
обязательно снимали папахи и кланялись долу, так завершалось пение.
Впервые текст песни «Ты, Кубань, ты наша родина» был опубликован в «Кубанском казачьем вестнике» № 28 за 1915 год. К осени того же года песня вышла небольшой брошюрой, в 6–8 страниц, вместе с другими стихами автора. В подзаголовке песни было обозначено: «Плач кубанских казаков». Многие тогда высказывали недоумение: почему «плач»? Действительно, дела на турецком фронте не давали повода к пессимизму. Но автор настоял на своем праве. В 1916 г. песня вошла в «Сборник славы кубанцев», чтобы уже через некоторое время стать официальным гимном Кубанской рады, и тогда же была положена на музыку. Музыку к песне, как удалось установить В. П. Бардадыму, написал дирижер Кубанского симфонического оркестра М. Ф. Сириньяно [98] По вопросу авторства музыки песни «Ты, Кубань, ты наша родина» см. на с. 236–241 настоящего сборника статью Н. Корсаковой «Михаил Петрович Колотилин…».
.
Читать дальше