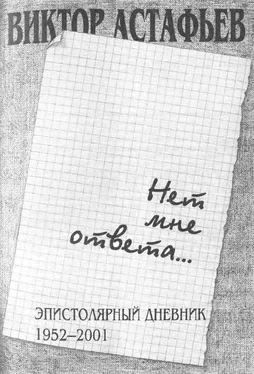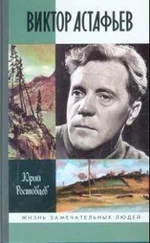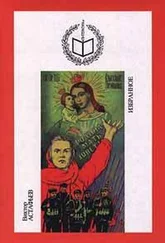Ну, вот графоман так графоман! Собирался черкнуть пару фраз и нате, разошёлся, но ты вроде бы разбираешь мои каракули, вот тебе и работа.
Главное, не хандри и не кисни, мы уж вон вовсе стариками становимся, М. С. болеет постоянно, и хронических у неё накопилась куча, ан ломает себя, работает, и я, глядя на неё, не сдаюсь. Пойдёшь в церковь, помолись за чусовлян и за нашу чусовскую дочерь, которую из-за снегов по грудь мы ныне зимой и навестить не можем. Но уж февраль к концу идёт, березняк забусел, горы днём синеют за рекою. Вытаем! Вытаем!
По Овсянке очень скучаю. Осенью вдогон конференции провели ещё юбилей — 390 лет селу, заложили часовню, и с тех пор я там и не бывал, и девчонки не едут и даже не звонят. Может, Марья их отшила. Марья сурова нравом сделалась, особливо к женскому роду, и тут уж ей не укажешь. Годы своё берут!
Ну, обнимаю, целую, поклон парням, жене. Обними и поцелуй маму — скажи: чусовляне велели. Преданно твой Виктор Петрович
25 февраля 1997
(И.А.Дедкову)
Ответ Игорю Дедкову (увы, уже вослед). Голова, где, нам кажется, сосредоточено всё лучшее, что имеет человек, и прямая кишка, где скапливаются и через которую выделяются отходы человечьи, болят у человека одинаково больно. Нет, не одинаково — голова болит как-то «вообще», она как бы изображает недомогание, и потому интеллигентную головную боль можно утешить порошком, мокрым полотенцем, льдом, снадобьями, а вот боль в прямой кишке груба, открыта, всегда остра, дика, невыносима, от неё защемляет сердце, от неё и голову не слышно — от неё только кричать, кусать губы, извиваться на постели, искать место, молить Господа о милости.
Вот я и кричу от грубой боли, не подбирая слов, не могу, неспособен их подбирать и терплю головную боль с 1943 года, со времени контузии, живу с нею, ношу её, работаю с нею или свыкнувшись с нею — только чтоб не добавилось ни капли сверх того, что есть, вот если добавляется (чаше всего внешними обстоятельствами и безжалостными людьми), тогда уж невыносимо.
Впрочем, и о второй, задней, грубой, боли Создатель позаботился, её я тоже имею и давно, причём произошла она у меня не от сидячего писательского труда, а от надсады. Опять же от надсады грубой: плыл на плоту по уральской горной реке Усьве домой, в город Чусовой, где тогда жил. Книжку первую мою ребята из Перми привезли, а я в леспромхозе в командировке от газеты был — и заторопился подержать мою драгоценность в руках, сколотил плот из сырых брёвен и заскочил с плотом в полуобсохший перехват на выходе из протоки. Плот не бросил — показалось, перехват короткий, а пришлось шестом поднимать и волочить его почти полкилометра.
Назавтра живот судорогами свело, рванул в туалет — полный унитаз нутряной чёрной крови. Вот с тех пор, с первой книги, мучаюсь: головой — от войны, жопой — от (всё-таки) литературы.
А вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, грубой работы, черствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал, в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился. Пусть не духом, но костью, телом мы покрепче его, да вот воем и лаем. А он, крутой человек, балованный жизнью, славой, сладким хлебом, и вовсе не выдержал бы нашей натуральной действительности и, не глядя на могучую натуру, глубинную культуру и интеллектуальное окружение, такое б выдал, что бумага бы треснула, а уж зеркало русской революции утюгом бы всенепременно разбил, можете в этом не сомневаться.
Спите спокойно, брат по единой земле и жизни. Там уж никто, ни Лев Толстой, ни даже Гоголь, которому и в гробу смирно не лежится, не потревожат вашего покоя, и жизнь наша окаянная не осквернит ваш тонкий слух, вашу ранимую душу не оцарапает, природой и родителями настроенную на другой лад, на песни иные и на жизнь иную, чем та, которую мы доживаем и избываем.
Виктор Астафьев
10 мая 1997 г.
(А.В.Астафьевой)
Дорогая Ася!
Это очень хорошо, что ты догадалась мне написать — банальная причина моего молчания: затерялись твои письма, и адреса у меня не было. В Вологде же нет таких людей, чтобы я мог у них доверчиво спросить адрес Зины Чернышёвой. У меня очень много оснований не доверять вологодским ребятам. Написала прошлой зимой твоя мать письмо, полное литературных реминисценций, глубоких рассуждений о Боге, долге и детях, но ни своего адреса, ни Зининого не сообщила. В моей уже долгой практике эпистолярного сношения с людьми такие вот факты не единичны, напишут люди, требуя справедливости и ответов, а вместо ФИО поставят закорючку, думая, что их вместе с этой закорючкой знает весь мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу