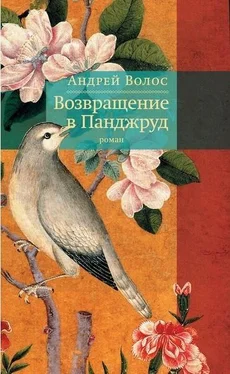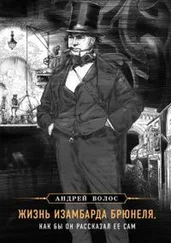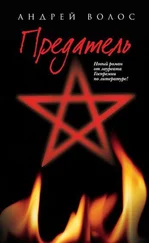— Селись в угловую, справа от ворот. Там чисто.
— В угловую... ага.
— Погоди-ка! — Хозяин уже перекладывал остатки мяса с блюда на лепешку. — Ты вот что. Отнеси своему слепому, пусть поест как следует. Скажи, так, мол, и так. Скажи, дескать, Сафар послал, караван-сарайщик. Кланяется, мол, желает благополучия. Да и сам перекуси. Вечером похлебка будет. Понял?
— Понял, — кивнул Шеравкан, принимая подношение. — Спасибо.
Он пересек пыльный двор, поставил блюдо у стены.
Жердяная дверь крошечной комнаты висела на ременных петлях. Вошел в келью, потянул носом. В углу лежала тощая стопка засаленных подстилок, курпачей. Должно быть, это именно от них несло застарелой псиной и гнильем.
Вынес наружу, по очереди вытряс, сложил в сторонке. Побрызгал водой и вымел пол, тут и там заляпанный бараньим салом. Сажи тоже хватало.
Аккуратно расстелил одеяльца. Ну хоть так.
Принес еще одну бадейку воды.
— Джафар, давайте-ка полью.
Слепец покорно сложил ладони лодочкой.
Когда с умыванием было покончено, помог ему пробраться внутрь.
— Садитесь. Я подмел, тут чистенько.
Джафар с кряхтением сел, положил посох. Перевел дух.
— Вот, — сказал Шеравкан, ставя перед ним блюдо. — Хозяин угостил. Ешьте. Мясо, лепешка.
Взял слепого за руку, протянул к еде.
Тот нашарил кусок, принюхался. Шеравкан оторвал краюху хлеба, вложил в руку.
Джафар откусил, стал нехотя жевать.
— Странный он какой-то, — добавил Шеравкан. — Сам дерет за ночь полдирхема, а сам вот мяса дал.
Ели молча.
— Вот и хорошо, — сказал Шеравкан, когда блюдо опустело. — Отряхните бороду. Чай будете пить?
— Потом.
Пошарив вокруг себя ладонями, слепец лег и отвернулся к неровной глинобитной стене.
— Ну и ладно, — согласился Шеравкан. — Отдыхайте.
* * *
Он вышел за порог, постоял, пожевывая сухую колючку боярышника и осматриваясь.
После еды настроение значительно улучшилось. Идут они, конечно, медленно, ничего не скажешь. Потратили целый день — и что? До Вабкента добрели.
Шеравкан в одиночку за полчаса добежал бы и не запыхался. Час — это совсем уж если нога за ногу. Очень, очень медленно идут. Даже вообразить страшно, сколько придется плестись до этого чертова Панджруда.
Но что делать?
Странно представить, как это — ничего не видеть? Вот Шеравкан смотрит — и видит: вот земля, вот трава... вот дерево, вот розовая полоса заката... Голову повернет: другое дерево, совсем непохожее на первое — другая трава... собаки у ворот... Все-все-все!
А он — ничего.
В одну сторону посмотрит — темно.
В другую — тоже.
И старый вдобавок. И больной, наверное.
Как ему быстрее?
Ну ладно, ничего. Сегодня отдохнет как следует, выспится. Вечером Шеравкан похлебкой накормит. Шаг за шагом, фарсах за фарсахом — так и доберутся. Ничего!
Вздохнув, направился к воротам. Постоял, глядя на дорогу. Проследил, как в одну сторону проехала арба, а минут через пять в другую — сутулый старик на печальном осле. Проводив его взглядом, решил пройтись под галереей. Ненадолго задержался у одной из комнат, наблюдая, как торговец сластями, проклиная настырных ос, сортирует свои липкие мешки.
Невдалеке от лестницы расположились два постояльца. Один сидел на приступке и, похоже, в беседе участвовал через силу. Другой стоял перед ним, страстно жестикулируя.
— Мои песни поют по всему Аджаму! — взволнованно восклицал он, то и дело сводя руки в замок, а потом снова расцепляя, чтобы резко взмахнуть или подергать себя за тощую бороденку. Взгляд глубоко посаженных глаз был лихорадочно-тревожным, грязные пальцы левой ноги торчали из рваного сапога. — Я — великий поэт! Я — Рудаки! [15] В персидском языке (и таджикском, который является его окающим диалектом) ударение в слове падает на последний слог: Саади́, Фирдоуси́, Рудаки́ и т. п.
Я — Царь поэтов при дворе бухарского эмира! Никто — вы слышите: никто! — не сравнится со мной в искусстве поэзии!
— Да, да, — удрученно кивал второй. — Вы уже мне это говорили, уважаемый.
“Рудаки?” — удивился про себя Шеравкан.
Вот это да! Рудаки! Царь поэтов!
Разве мог найтись в Бухаре человек, не слыхавший этого имени? Стихи Рудаки были у всех на слуху. То и дело по городу прокатывались новые бейты, и каждый считал своим долгом знать новинку наизусть, да в том и труда никакого не было, потому что все его строки, раз услышанные, навсегда застревали в памяти. Рудаки! Ничего себе! Поэт Рудаки был известный, очень известный в Бухаре человек. Правда, известность его была иной, нежели, скажем, известность начальника эмирской стражи или визиря. Скорее, она походила на славу одного из святых покровителей города: ведь простые люди не имеют дела ни с визирями, ни с начальниками стражи, они молятся святому Хызру; вот и быть причастным к Рудаки хотя бы тем, что знаешь несколько его бейтов, всякому так же приятно и лестно, как верить, что о тебе помнит святой заступник.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу