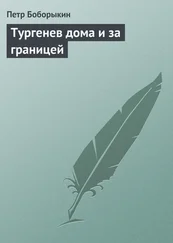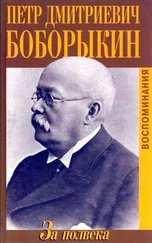– Прежде, – отвечал мне Золя, – я писал утром роман, а после завтрака статьи. Но это слишком утомительно, я не мог выдержать. Теперь я занимаюсь чем-либо одним. Мое парижское письмо для господина Стасюлевича берет у меня дней пять-шесть. Театральный фельетон я пишу в один присест, также и корреспонденцию.
Но все это вместе составляет от двенадцати до четырнадцати дней, то есть полмесяца. Стало быть, он может посвящать роману только две недели. Но, кроме того, Золя хочет составить себе имя и как драматический писатель. В течение года он непременно напишет одну пьесу, а то так и две. И теперь, тотчас после неуспеха своей комедии в театре «Пале-Рояль», он опять что-то пишет для сцены. Года два тому назад он вел совершенно замкнутую жизнь. Теперь чаще бывает в театрах, по обязанности критика, а зимою начинает ездить и в свет; но все-таки две трети его времени уходит на труд. До обеда он почти безвыходно дома. Жить иначе не может ни один парижский писатель, как это я говорил в начале своих очерков.
Любовь к нему русской публики хорошо известна Золя; он это очень ценит и в первый же мой визит показал мне письмо какой-то особы из Москвы. Он мне его не читал вслух, но сообщил только, что оно чрезвычайно восторженно и что автор этого письма, по всей вероятности, принадлежит к женщинам самого передового образа мыслей. Он попросил меня разобрать в конце письма адрес, написанный также по-французски. Я не мог воздержаться от улыбки, видя, как наивный автор послания перевел французским жаргоном следующий адрес: «Неглинный бульвар, меблированные комнаты купца Ечкина».
Золя, по его словам, постоянно получает предложения от русских редакций и охотно идет на всякую комбинацию по части переводов его романов. С русским гонораром он хорошо знаком и первый сообщил мне заинтересованным голосом, что его приятель Доде получает от петербургской газеты, где появляются его фельетоны, такую-то плату за строчку.
Когда во второй мой визит я уходил и прощался с ним в передней, Золя сказал мне, что через несколько дней перебирается в свой деревенский домик.
– А вы уже сделались собственником? – спросил я шутя.
– Какая собственность! Так, конурка для кроликов. Вы подумайте, – прибавил он с характерным качанием головы, – я теперь только вздохнул. Я целых десять лет ел хлеб!
По-французски «есть хлеб» значит вовсе не то, что у нас. По-нашему это – быть обеспеченным и даже благоденствовать; а француз употребляет это в смысле жизни, если не впроголодь, то очень великопостной, на одном хлебе.
Не совсем выгодное впечатление, которое произвел на одного из моих петербургских собратов Золя, может повториться. Я наперед предупреждаю поклонников его таланта не настраивать своего воображения на очень высокий диапазон. Золя, насколько я пригляделся к нему, – личность совсем не поэтическая. Это рабочий, сознающий свои силы, даже самоуверенный, но не заносчивый, высчитывающий свои выгоды, но в то же время преданный идее искусства. От него нельзя ожидать чего-нибудь особенно тонкого в беседе. Говорит он дельно, с множеством житейских и бытовых штрихов; это разговор очень умного, даровитого, бывалого и сильного человека, прошедшего через нужду и черную работу. Не только в романах, но даже в статьях своих он гораздо блистательнее, новее и глубже. Человек, искренно к нему расположенный и притом чрезвычайно образованный (мне не нужно называть его), уверял меня, что Золя знает очень мало. В доказательство он приводит спор, бывший при нем между Золя и Флобером, которого Золя признает своим учителем. Флобер по поводу одного из писем Золя В. Гюго сказал ему, что критический взгляд на драмы Гюго и его романы, какой Золя выразил так откровенно и смело, уже не новость, что то же почти говорил когда-то Гюстав Планш.
– А кто такой Гюстав Планш? – спросил вдруг Золя.
Как бы то ни было, при всех своих недочетах по образованию и по натуре, Золя типичнейшая личность, именно в теперешнюю эпоху. Хотя он к политическим вопросам относится и не страстно, но сквозь его буржуазную оболочку вы видите не дилетанта, а рабочего. Он дойдет до тех пределов творчества, которые поставил себе; в нем вы чувствуете глубокую веру, какую парижский рабочий имеет в положительное знание, в успехи цивилизации, в трезвый и прочный поступательный ход человечества, и если бы он впоследствии, даже в очень скором времени, сделался еще самоувереннее, вдался бы в культ успеха, комфорта, денежного положения, вряд ли это повлияет на основной тон его творческой работы. Он останется верным сыном своей эпохи, понимая это в здравом, прогрессивном смысле. Таков по крайней мере вывод из всего, что я вижу в нем как романисте и критике. Личное знакомство, к счастию, не повлияло на меня в дурную сторону, потому именно, что Золя чересчур характерен, не только как французский, но и как парижский тип.
Читать дальше