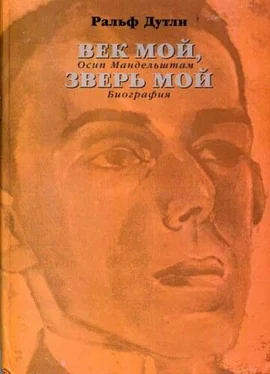Сразу же по приезде (7 июня 1916 года) он пишет последнее стихотворение, обращенное к Марине Цветаевой: «Не веря воскресенья чуду…» Удивительно: и его последнее стихотворение — самое эротическое. И подобно Цветаевой в ее первом стихотворении любовного цикла, Мандельштам преодолевает даль и разъединенность — поцелуем . Он говорит о различии их миров, о напряжении, соединяющем территорию Марины, северо-восточную область вокруг средневекового Владимира (центр России в домосковский период, до 1328 года — местопребывание митрополита), и южный Крым, древнюю Тавриду, откуда Мандельштам любил устремлять свой мысленный взор на средиземноморское пространство.
После поцелуйного ритуала — в локоть, лоб и запястье («Целую кисть, где от браслета / Еще белеет полоса. / Тавриды пламенное лето / Творит такие чудеса») — концовка стихотворения провозглашает то, что роднило обоих поэтов: веру в силу слова, в магию имени и поэзии, одолевающую время и смерть:
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок (I, 123).
Песок в ладонях (мгновение) указывает на песок в часах (время), а песок в часах — на морской песок (вечность). То, что Мандельштам собирается подарить Марине, — это стихи в форме времени, бегущего сквозь его ладони и застывающего в них. Образ поэтического бессмертия.
Трудно переоценить значение этой встречи двух великих русских поэтов XX столетия. Одно из пророчеств в стихах Марины, подаренных Мандельштаму, гласило: «Ты не раскаешься, что ты меня любил» [112] Там же. Т. 1. Стихотворения. С. 269.
. Мандельштам был очарован этой женщиной и поэтессой, которая умела быть такой непринужденно свободной в своей многоликой любви. С 1912 года она была замужем за Сергеем Эфроном, у нее родилась дочь Ариадна, а в 1914–1915 годах она пережила мучительную связь с Софией Парнок. Цветаева явилась Мандельштаму как откровение, она не только «дарила» ему Москву, но открыла его самого для всеобъемлющей власти эроса. В письме к Петру Юркевичу от 21 июля 1916 года она пишет — уже после разрыва в Александрове — иронически и от-страненно:
«Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привел один человек — поэт, прелестное существо, я его очень любила! — проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: “Неужели Вы не понимаете, что небо — поднимите голову и посмотрите! — в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было”» [113] Там же. Т. 6. Письма / Вступит, статья Анны Саакянц. Сост., подг. текста и коммент. Льва Мнухина. М., 1995. С. 24.
.
И семь лет спустя, в письме к литературному критику Александру Бахраху, 25 июля 1923 года:
«…Мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту М[андельшта]му:
— “Что Марина — когда Москва?! “Марина” — когда Весна?! О, Вы меня действительно не любите!”
Меня это всегда удушало, эта узость. Любите мир — во мне, не меня — в мире. Чтобы “Марина” значило: мир, а не мир — “Марина”» [114] Там же. С. 574.
.
Чтобы Марина значило: мир… Даже Надежда Мандельштам, которую Цветаева высмеивала как ревнивую супругу, одобрительно отзывается в своих воспоминаниях об этой связи и утверждает, что Марина как бы расколдовала Мандельштама, дважды раскрепостив его — для Москвы и для эроса:
«Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства в России, нет нравственной свободы… […] Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты» [115] Мандельштам Н. Вторая книга. С. 473–474.
.
Итак, летом 1916 года Мандельштам вновь погружается в крымскую атмосферу, вспоминает свое знакомство с Цветаевой, означавшее для него нечто большее, чем любовное приключение, и, вспоминая, мысленно ее целует. После разлуки с Мариной, живым воплощением женского начала в поэзии, происходит другое трагическое событие, которое наложило свой отпечаток на лето 1916 года. Это — утрата первой женщины, столь многое определившей в его жизни (речь идет не о Цветаевой).
В Коктебеле к нему присоединяется его брат Александр. Мандельштам же наслаждается летом и скромной славой поэта, о чем с восторгом и упоением сообщает матери 20 июля 1916 года (на самом деле, выступая 18 июля в Феодосии на вечере, в котором участвовали также Волошин и Ходасевич, он был высмеян публикой за «непонятность» стихов) [116] О пребывании Мандельштама в Коктебеле летом 1916 г. см. также: Купченко В . Осип Мандельштам в Киммерии (материалы к творческой биографии) // Вопросы литературы. 1987. № 7. С. 190–191.
.
Читать дальше