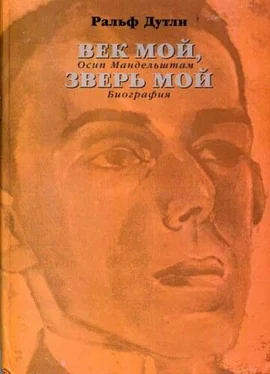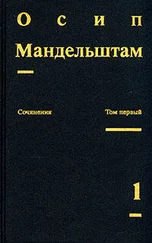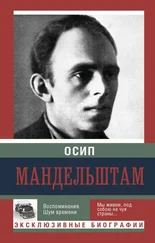Соборы московского Кремля (1475–1509)
Но Марина введена в ткань этого стихотворения еще глубже; она как бы растворена в восклицании: Флоренция в Москве! Конечно, эти слова — напоминание о том, что собор Успения пресвятой Богородицы, старейший среди сохранившихся кремлевских храмов, был построен в 1475–1479 годах флорентийцем Аристотелем Фиораванте. Однако «Флоренция» (то есть «цветущая») — этимологически точное воспроизведение имени Цветаевой (от русского корня «цвет», «цветок», «цвести»). Флоренция в Москве и есть Цветаева! [108] На это обратил внимание В. М. Борисов. См.: Мандельштам О. Сочинения в двух томах / Сост. П. М. Нерлера. Подг. текста и коммент. А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера. Вступит, статья С. С. Аверинцева. Т. 1. М., 1990. С. 475.
«Флоренция в Москве» — не просто стихотворный образ; это эстетическая — на всю жизнь! — программа поэта Мандельштама, пытавшегося соединить изначально русское с западноевропейским. Афины (Акрополь), Рим (Аврора, богиня утренней зари) и Флоренция (зодчество Фиораванте) сливаются в этих стихах в одно целое и растворяются — в образе Москвы. Как бы принимая этот город в дар от Марины, Мандельштам тут же насыщает его собственным, то есть европейским содержанием: Афины, Рим, Флоренция. Архаическая, восточная, святая Москва предстает у Мандельштама в европейском обличье, яркой, красочной и неповторимой.
Но уже во втором стихотворении (март 1916 года) наплывает самое черное — из всех возможных — видений. Поездка на санях через заснеженную Москву оборачивается путешествием сквозь русскую историю, отмеченную религиозными мифами, политическими убийствами и дворцовыми переворотами. Это «смутное время» — эпоха, наступившая после смерти Ивана Грозного (1584). Лирический герой, говорящий от первого лица, проезжает вместе с Мариной через Москву, соединяя в себе образы двух убитых царевичей: Димитрия, младшего сына Ивана Грозного, и Алексея, казненного в 1718 году собственным отцом, Петром I:
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой. […]
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли (I, 120–121).
Это стихотворение — непостижимо раннее предчувствие Мандельштамом его собственной насильственной смерти. Видение самой мрачной страницы московской истории (после светлой ясности первого стихотворения к Марине с его европейским фоном) переходит в видение собственной казни — и это в 1916 году, еще до всех революций! — в предощущение нового «смутного времени» [109] О стихотворном диалоге Мандельштама с Мариной Цветаевой см. подробнее: Marina Zwetajewa / Ossip Mandelstam. Die Geschichte einer Widmung. Gedichte und Prosa. Herausgegeben von Ralph Dutli. Zürich, 1994. S. 117–137.
.
После московских «наездов и бегств» Мандельштам посещает свою пленительную приятельницу и московскую музу в Александрове, городке Владимирской губернии, откуда были родом ее предки, в ста километрах к северо-востоку от Москвы. Этот безрассудный визит описан Цветаевой в «Истории одного посвящения»: их походы на кладбище и суеверный страх Мандельштама — он боится и покойников, и молодых бычков, и монашенок, одетых в черное. Далее она описывает его поспешный отъезд в Крым, означающий их разрыв. Рассказ о приезде Мандельштама, о его странностях и страхах, выдержан у Цветаевой в ласково-ироническом тоне и лишен какого бы то ни было лукавства. Она давно привыкла к обряду расставания: «Отъезд произошел неожиданно — если не для меня с моим четырехмесячным опытом — с февраля по июнь — мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств ), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал» [110] Цветаева M . Собр. соч. в семи томах. Т. 4. С. 147.
.
Никто из других мемуаристов не сумел так проникновенно ощутить внутреннюю тревогу Мандельштама тех лет, как Марина Цветаева:
«Нужно сказать, что Мандельштаму, с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда отовсюду хотелось домой. А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал всегда, то есть раз в три месяца по стиху) — томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось — не жилось» [111] Там же. С. 145.
.
Эта прощальная сцена комична и трогательна: Мандельштам кричит, и его крик относит паровозным дымом: «Мне так не хочется в Крым!» На самом деле он снова, как и в прошлом году, отправляется в Крым к Максимилиану Волошину.
Читать дальше