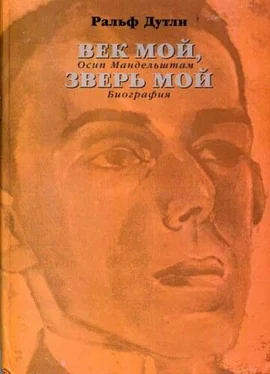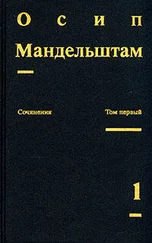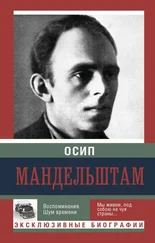Варшавская неудача лишний раз показывает, что в жизни Мандельштам мог быть только поэтом. Герой войны или милосердный ангел у постели раненых — для этого он совсем не годился. Однако в 1914–1915 годах Мандельштам-поэт пытается попробовать себя в новых ролях. Как мечтательный Иосиф он был уже продан в Египет своими братьями. Как паломник и пилигрим, побывавший в Риме, он уже примерял к себе маску Чаадаева. Кто здесь говорит и чьими устами? Взаимопроникновение различных уровней сознания — существенный признак классического модернизма Мандельштама. Уже в ранний период его поэзию населяют Гомер и Сократ, Эдгар Аллан По, Поль Верлен, Чарльз Диккенс, Макферсон, Овидий, Расин, Еврипид и многие другие. Мандельштам легко устраняет границы и, словно волшебник, вовлекает в свою поэзию разные времена и пространства, разные миры. Так, в его стихотворении «Я не слыхал рассказов Оссиана…» (1914) читаем:
Я получил блаженное наследство
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет (I, 103).

«Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны»
Петр Митурич. Портрет Осипа Мандельштама (1915)
С ранних пор особенно важной фигурой для Мандельштама был Овидий, сосланный в 8 году н. э. императором Августом на Черное море — «на край света». Здесь напрашивается роковое отождествление с жертвой политических гонений, с темой изгнания, повторяющейся в нескольких стихотворениях Мандельштама. Это — провидческое предощущение того, что произойдет много позже [85] О теме Овидия в стихах Мандельштама см.: Dutli R. Europas zarte Hände. Essays über Ossip Mandelstam. S. 7—25.
.
В августе 1914 года, когда война уже шла полным ходом, увлечение Римом достигает у Мандельштама крайнего предела, становится необходимым условием обновления в духе гуманизма:
Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.
Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари (I, 102).
«Католический этап», коим Мандельштам обязан Чаадаеву, был необходим и важен для его духовного становления и «внутренней свободы». Но дело не в вероисповедании — в применении к Мандельштаму такой подход немыслим. Этот поэт не годился в проповедники точно так же, как и в военные герои. Тем не менее весной 1915 года возникает его наиболее «христианское» стихотворение, воспевающее евхаристию («Вот дароносица, как солнце золотое…»). Она показана как грандиозный праздник, «великолепный миг», «вечный полдень» в священном пространстве, как захватывающее ощущение полноты: «Взять в руки целый мир, как яблоко простое» (I, 114).
Мандельштам не отречется ни от одного из этапов своего духовного становления: но снова и снова он изыскивает возможности обновления и обогащения каждого из них. Его истинный талант заключался в свободном обращении с ними, в той «небывалой свободе», которую он воспел в одном из стихотворений, написанном той же весной 1915 года:
О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
— Ты побудь со мной сначала, —
Верность плакала в ночи, —
Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя…
— Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму (I, 113).
«Тихая свобода» в стихотворении 1908 года, «внутренняя свобода» в статье о Чаадаеве 1914 года, «небывалая свобода» в стихотворении 1915 года — создается впечатление, что уже в молодости Мандельштам стремится к тому, чтобы стать ее рыцарем и апологетом.
24 июня 1915 года Сергей Каблуков отметил в своем дневнике, что Мандельштам принес ему три новых стихотворения, в том числе — об евхаристии («Вот дароносица, как солнце золотое…») и «О свободе небывалой» [86] Мандельштам О. Камень. C. 250, 363.
. Видимо, обе эти темы сосуществовали в его воображении. Третье стихотворение повествовало о секте имябожцев, возникшей на горе Афон около 1910 года, — слово «бог» и было для них богом. Необычный монах — монах словесного искусства! — Мандельштам был захвачен «мощью имени» и сформулировал раз и навсегда свое собственное отношение к слову:
Читать дальше