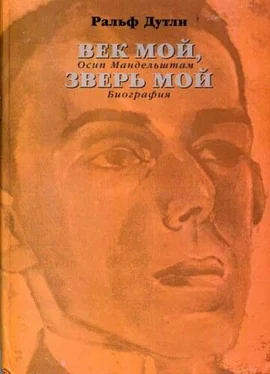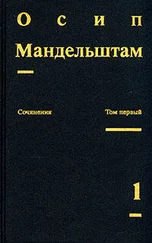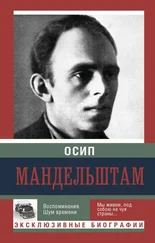И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.
Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог “пепайдевкос”? […]

«Чтение Гомера превращалось в сказочное событие»
Осип Мандельштам — студент (1912)
Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер — чем непонятнее, тем прекраснее. Я очень боялся, что на экзамене он провалится, но и тут судьба его хранила, и он каким-то чудом выдержал испытание» [79] Цит. по: Осип Мандельштам и его время. С. 65–66. То же в сб.: Мандельштам и античность / Сб. статей под ред. О. А. Лекманова. М., 1995. С. 8 (Записки Мандельштамовского общества. Т. 7).
.
Однако 29 сентября 1915 года Мандельштам провалится на экзамене по латинской литературе (Катулл, Тибулл). Это кажется изысканной иронией судьбы, если вспомнить, сколь искусно вплетаются в стихи мандельштамовских сборников «Камень» и «Tristia» античные авторы, будь то римляне Катулл, Тибулл и Овидий или греки Гомер, Пиндар, Алкей и Сафо. Да и чтение Гомера вновь и вновь находило поэтический отклик в творчестве Мандельштама [80] Гомер в стихах Мандельштама: «Есть иволги в лесах и гласных долгота…» (1914); «Бессонница, Гомер, тугие паруса» (1915) и «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917) с заключительными строчками: «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный».
.
Даже шутливые эпиграммы в «Антологии античной глупости», которые в «Бродячей собаке» Мандельштам выдавал за стихи римского поэта Кайюса Стульцитиуса (от латинского «stultus» — глупый), свидетельствуют о том, что, искажая и пародируя античные эпиграммы, он знал оригиналы: «— Лесбия, где ты была? / — Я лежала в объятьях Морфея. / — Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!» (I, 156). Или: «Двое влюбленных в ночи дивились огромной звездою, — / Утром постигли они — это сияла луна» (I, 158).
И к античной, и к современной литературе Мандельштам подходил исключительно с меркой поэта. Но то, что требовалось от студента, он не всегда был в состоянии выполнить. Его сближение с иноязычной литературой было интуитивным; он усваивал ее не академически, а избирательно. Его подлинным «университетом» был круг Цеха поэтов, в котором весьма почиталась филология (любовь к слову). Впрочем, подчас эти сферы пересекались. Об идеальном университетском семинарии «в узком кругу» Мандельштам вспоминает в своей статье «О природе слова» (1922), а позднее, в яростной «Четвертой прозе» (1929/1930), говорит о воинственной «филологии», вышедшей из этой среды:
«Литература — явление общественное, филология — явление домашнее, кабинетное. Литература — это лекция, улица; филология — университетский семинарий, семья. […] Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни» (I, 223).
«Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала — все-терпимость…» (III, 173).
Тем не менее, этот незадачливый студент, который прекратит вскоре посещать университетские занятия, уже высоко оценен как поэт. В 1913 году состоялся и дебют Мандельштама-эссеиста: во второй книжке журнала «Аполлон» был помещен его очерк «О собеседнике». Это первый эссеистический опыт Мандельштама содержит в наброске важную для него концепцию диалога с читателем, «провиденциальным» собеседником будущего, тайным адресатом лирической «почтовой бутылки»: «Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат» (I, 184). Так говорит поэт, который, кажется, угадывает, что будет плохо понят современниками, и поэтому предназначает свои стихи будущему.
Уже в этом первом очерке со всей определенностью высказано убеждение в том, на что поэт «имеет право»: «Ведь поэзия есть сознание своей правоты» (I, 185). Это сознание предвосхищает ту «моральную силу» акмеизма, которая постулируется в статье «О природе слова» (1922). Три крупнейших акмеиста — Мандельштам, Ахматова, Гумилев — еще не раз проявят это качество в своем отношении к тоталитарной власти. Правда, им придется дорого заплатить за радикальное «сознание своей правоты». Их неумолимо жестокое будущее вряд ли имело что-либо общее с фантастическими видениями футуристов.
Читать дальше