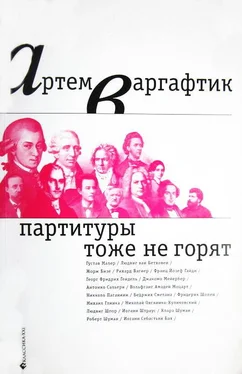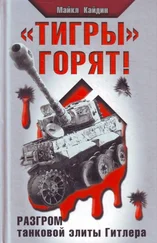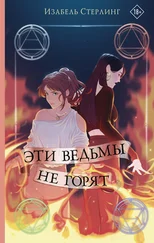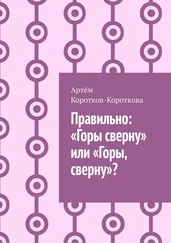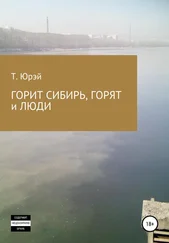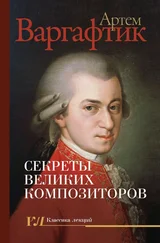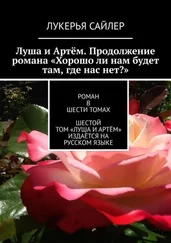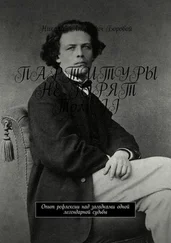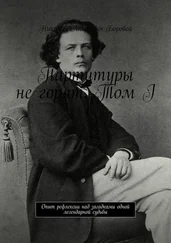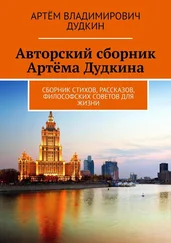Поиски королевства можно продолжать еще очень долго, и независимо от результата (либо его полного отсутствия, поскольку ищем мы то, чего в реальности заведомо нет) они будут неисчерпаемо приятны. Но, кажется, пора спросить: нашли мы королевство для «Его Величества» Иоганна Штрауса-сына?
Нашли, но, правда, совсем не там, где мы могли предполагать местонахождение этой державы. Ни в дебрях филармонической жизни, ни в оперных дебрях, ни в дебрях международных отношений ее нет. Тогда где? Это Королевство Большого Пиара!.. PR, как известно, международно признанное сокращение от английских слов public relations, что переводится как «связи с общественностью». И вот эти самые связи образуют гигантскую всемирную сеть, можно даже сказать, паутину всемирного масштаба. Связи эти трогательны и неразрывны. И вот они-то — по сути — и являются королевством большого вальса. А в центре этой паутины как раз и располагается… угадайте кто.
Но будем честны — не на нем свет сошелся клином. Когда всё или почти всё, относящееся лично к господину Штраусу-сыну, можно считать расследованным, начинается настоящая, серьезная история его королевства.
Жил-был один удивительный персонаж музыкальной истории по имени «венский вальс». И все у него было хорошо: он рос, развивался, богател, становился знаменитым, но вдруг что-то с ним случилось, хотя все его очень любили. Вдруг из самых разных источников начали поступать противоречивые музыкальные сведения о том, что венский вальс то ли очень плох, то ли на смертном одре, то ли вовсе скончался. У нас нет оснований слепо доверять этим источникам, относиться некритически к подобной информации, но ее необходимо проверить, причем с помощью самой музыки. Вот этим я и предлагаю заняться. Жив ли венский вальс, умер ли он? А если умер, то от чего?
У всякой компании свои развлечения: кто-то пьет коньяк в дорогом ресторане, кто-то идет в кино, кто-то в филармонию слушать серьезную музыку, кто-то гоняет мяч, а кто-то сажает розы на даче. Когда работящие и веселые крестьяне Южной Австрии просто топали башмаками после попойки или после работы, танцевали себе незатейливый сельский танец, кружась парами, они, конечно, не представляли себе последствий этого развлечения для истории музыки. Они не могли и предположить, что их танец, у которого даже не было названия, останется в истории, а его простонародный ритм (лендлер — «Ländler» — происходит от немецкого слова «Land» — сельская местность, деревня и означает сельский танец) превратится в мировую музыкальную империю вальса. Они просто развлекались как умели — и все. Лендлер — еще не вальс, но уже действующее лицо нашей истории. В принципе немецкое слово «Walzer» всегда означало «крутилку» или «вертелку».
Едва ли не первым случаем, когда ритм на три четверти (еще не вальс, но уже ритм) проник в серьезную классическую музыку, стал Скрипичный концерт небезызвестного в Вене композитора Людвига ван Бетховена. Дело было в 1806 году. Когда Бетховен сочинил свой единственный Скрипичный концерт, то самый высокооплачиваемый из его учеников, эрцгерцог Рудольф — наследник австрийского престола, который на скрипке играть не умел совсем, а на рояле с трудом, но мог, — попросил учителя сделать версию той же музыки для фортепиано, поскольку ему очень понравился, как говорят, один мотивчик. Это мелодия из средней части финального рондо, она-то и стала одним из прообразов будущего венского вальса. Как в свое время француженки (которые очень хотели походить на свою королеву Анну Австрийскую — природную блондинку) вынуждены были высветлять волосы перекисью водорода, точно так же новой «игрушкой» великовозрастного наследника престола тогда в Вене заинтересовались очень многие. И это стало одним из незаметных, но важных пунктов в истории венского вальса: его узнали и запомнили — еще не вальс, но уже ритм. Хотя, например, у Бетховена, ни одного сочинения с названием «вальс» еще нет.
Пора уже, наконец, раскрыть секрет, который конечно же не беспокоил в 1806 году ни Бетховена, ни его высокопоставленного ученика, однако очень сильно донимал людей, которые пеклись об общественной нравственности. Дело в том, что все прежние танцы, которые были в ходу во дворцах, в салонах, имели — в общем и целом — достаточно грубое, простонародное происхождение. Но они просто обжились в городских интерьерах и утратили грубые деревенские привычки, зато приобрели лоск, ловкость, этикетные манеры. Однако с точки зрения физического контакта партнеров там максимум что разрешалось, это пройти несколько шагов, взявшись за руки, и разойтись в разные концы танцевальной залы. А чтобы танцевать вальс, необходимо было, чтобы кавалер — страшно вымолвить! — держал даму за талию. На самом деле, конечно, не за талию — строго говоря, это называется «правое подреберье», чуть выше талии, и не держал, а всего лишь дотрагивался одним пальцем до тела партнерши, другая рука должна была оставаться на отлете…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу