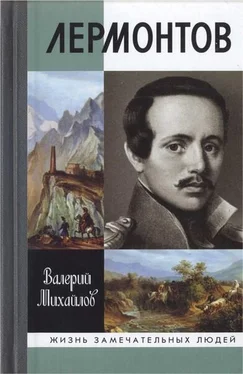Настоящее не прощается.
Не здесь ли кроется одна из причин безжалостной и мелочной придирчивости философа по отношению к Лермонтову?
«Бумажный солдатик» в жизни и в стихах не прощает поэту и воину — даже спустя более полувека после гибели Лермонтова (заметим, что Соловьёв выступает со своей лекцией перед самой своей смертью, будто боясь не высказаться напоследок).
Не от мира сего
Мережковский, как и Розанов, считает материю Лермонтова высшей, не нашей, не земной. В мистическом толковании этой материи он, в отличие от философа, не ограничивается общими определениями, а представляет в подробностях свой взгляд и, как ему наверное казалось, с доказательствами, чему служат и легенды, и стихи Лермонтова, и воспоминания о нём.
«„Произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона; и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон“.
Существует древняя, вероятно, гностического происхождения, легенда, упоминаемая Данте в Божественной Комедии, об отношении земного мира к этой небесной войне. Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения; но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмою, благость Божья посылает в мир, чтобы могли они сделать во времени выбор, не сделанный в вечности. Эти ангелы — души людей рождающихся. Та же благость скрывает от них прошлую вечность, для того, чтобы раздвоение, колебание воли в вечности прошлой не предрешало того уклона воли во времени, от которого зависит спасенье или погибель их в вечности будущей. Вот почему так естественно мы думаем о том, что будет с нами после смерти, и не умеем, не можем, не хотим думать о том, что было до рождения. Нам дано забыть, откуда, — для того чтобы яснее помнить, куда.
Таков общий закон мистического опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых поднялся угол страшной завесы, скрывающей тайну премирную. Одна из таких душ — Лермонтов».
Тайна премирная — это тайна высшего мира, горняя, небесная.
По Мережковскому, душе Лермонтова свойственно чувство незапамятной давности, древности; воспоминания земного прошлого сливаются у него с воспоминаниями прошлой вечности, таинственные сумерки детства — с ещё более таинственным всполохом иного бытия, того, что было до рождения. «На дне всех эмпирических мук его —…метафизическая мука — неутолимая жажда забвенья». Не что иное, как опыт вечности, определяет в такой душе её взгляд на мир. Земные песни ей кажутся скучными, жизнь — пустой и глупой шуткой, да и сам мир — жалким. Зная всё, что было в вечности, такая душа провидит и то, что с ней произойдёт во времени. Отсюда — и видения будущего, и пророчества. «Это „воспоминание будущего“, воспоминание прошлой вечности кидает на всю его жизнь чудесный и страшный отблеск: так иногда последний луч заката из-под нависших туч освещает вдруг небо и землю неестественным заревом».
Словом, Лермонтов, как считает писатель, в прямом смысле — человек не от мира сего.
Любитель контрастов, Мережковский замечает: «В христианстве движение от „сего мира“ к тому, отсюда туда; у Лермонтова обратное движение — оттуда сюда».
Магнетизм Лермонтова, его сумрачность, таинственность, «недобрую силу» взгляда (по воспоминаниям одних людей — хотя было немало совершенно противоположных впечатлений) — все эти бессознательные ощущения современников поэта Мережковский доводит до непременного для него логического конца:
«…в человеческом облике не совсем человек, существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшенный к нам из каких-то неведомых пространств…
Кажется, он сам, если не сознавал ясно, то более или менее смутно чувствовал в себе это… „не совсем человеческое“, чудесное или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому что люди этого никогда не прощают.
Отсюда — бесконечная замкнутость, отчуждённость от людей, то, что кажется „гордыней“ и „злобою“. Он мстит миру за то, что сам „не совсем человек“. <���…>
Отсюда и то, что кажется „лживостью“. — „Лермонтов всегда и со всеми лжёт“. — Лжёт, чтобы не узнали о нём страшную истину».
Однако прервём на миг эти на первый взгляд логичные фантазии кабинетного писателя. Вот мнение человека, который был знаком с Лермонтовым и служил с ним на Кавказе, сражался вместе с ним, — а на войне каждый виден насквозь: Руфин Дорохов, храбрый воин и знаменитый бретёр (с него Лев Толстой написал в «Войне и мире» Долохова):
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу